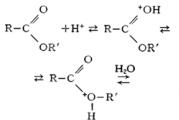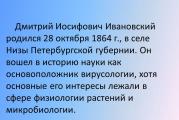Современный зритель глядя на иконы. Почему младенцы на средневековых картинах выглядят как кошмарные мужички и как они стали красивыми в эпоху ренессанса
![]()
Джотто. Рождение Марии. Капелла дель Арена в Падуе. 1304 — 1306.
Еще один вопрос, который необходимо рассмотреть для «адаптации» в мире икон - как в эпоху Средневековья людьми воспринималось и понималось время.
Различие в понимании времени, как философской категории в Западной Европе и в Византии обозначилось и сформировалось в эпоху Возрождения, когда Европа, в отличие от Византии, встала на путь нового миропонимания. После временного захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. отчуждение Византии от Европы стало во многом еще более глубоким и непримиримым.
Разный подход к тому, что такое время, в значительной степени определил разницу в отношении к миру, к происходящим в нем событиям, к роли человека в этих событиях и, как следствие, к целям, смыслу и возможностям изобразительного искусства, которое в Византии и на Руси было религиозным и преимущественно оставалось таким еще и в Западной Европе. Это в свою очередь непосредственно сказалось в формировании принципиально разных изобразительных приемов, использовавшихся художниками Западной Европы и иконописцами православных стран.
Эпоха Возрождения воскресила понятие истории, отделив священную историю, данную людям через откровение, от истории светской, то есть от истории общества, которая может быть реконструирована на основании документов, преданий и опыта, сохранившегося в народной памяти и в материальных свидетельствах прошлого.
У истоков истории как науки стоят великие итальянцы - Франческо Петрарка (1304-1374), Леонардо Бруни (1374-1444) и Лоренцо Балла (1403-1457).
Лоренцо Балла - автор знаменитого сочинения «О красотах латинской речи» - вслед за Петраркой ставил своей целью возрождение классической латыни античности, в традициях которой философия - риторика - язык были неразделимы. Пришлось не только прямо обратиться к наследию античности, но и проследить причины «порчи языка» и упадка культуры в «век варварства». Это привело к открытию исторической ретроспективы и исторического времени.
Время стало категорией, сознательно соотносимой с изменением, с причинно-следственной связью событий в их исторической последовательности. Возникла концепция исторической преемственности, и в связи с этим появилось понимание глубины времени, то есть того, что и именуется ретроспективой.
Открытие ретроспективы и исторического времени - линейной модели времени - практически совпало с возникновением учения о пространственной перспективе и изобретением соответствующего формализованного изобразительного языка - линейной перспективы.
Осознание пространственно-временной локализации событий привело к тому, что на картинах европейских художников исчезли совместные изображения событий, происходивших в разное время. Так, на фреске Джотто «Рождение Марии» мы видим девочку одновременно в двух местах: в руках повивальной бабки, сидящей на полу у кровати, и рядом с матерью, протянувшей к ней руки. Подобных примеров множество.
Новое отношение к категории времени наряду с новым теологическим мышлением, признававшим за человеком в его земной жизни свободу воли, через которую реализуется замысел Божий, породило нового человека - человека сознательного действия. Человека, творящего свою историю, и вместе с другими - историю своего народа, пружины которой сосредоточены прежде всего в ней самой (Леонардо Бруни). Этот новый человек смог сказать о себе: «…я использую время занятый всегда каким-нибудь делом, я предпочту потерять сон, чем потерять время» (Леон Баттиста Альберти, «О семье»).
Это нашло непосредственное отражение в изобразительном искусстве. Художники стали пристально изучать механизм движения человеческого тела, а также причины и динамику изменения его внешности, обусловленного настроением (гнев, радость смех, печаль) или процессами старения.
Здесь были сделаны фундаментальные открытия - была понята роль мышц и их специализация.
Осмысление движения как изменения, длящегося во времени и неотделимого от него, как отрицания равновесия, породило новые композиционные приемы, например, сознательное и целенаправленное смещение центра тяжести тела, изображение на картине незавершенного жеста, что подсознательно воспринимается зрителем как продолжающееся движение.
Вместо пассивного, покорного человека готической эпохи, безучастного или ждущего стимулов извне, пришел человек свободного волеизъявления. И вот готовность к действию, к движению стала обозначаться напряженными мышцами, выражением лица и глаз. Глядя на картину, мы ждем действия. Благодаря этому ожиданию, иногда очень тревожному и нетерпеливому, картина живет, в ней бьется пульс времени.
На востоке Европы - в Византии и в Древней Руси сохранялась прежняя концепция времени и истории, восходящая к отцам церкви (Блаженный Августин и др.). Жизнь человечества из поколения в поколение понималась как время, имеющее начало и конец - от момента творения Богом человека до второго пришествия Иисуса Христа.
![]()
Спас Нерукотворный. Двусторонняя икона-таблетка. Новгород. кон. 15 — нач. 16 в.
Событием, разделяющим историю на две части - эпохи (ветхую и новую), явилось рождение Иисуса Христа - воплощение Бога в человеческом облике.
До сотворения мира не было и времени. Время, как сотворенный Богом носитель изменений, к самому Богу не применимо. О Боге нельзя сказать «был» или «есть», или «будет» порознь - Он вечен, вездесущ, всеобъемлющ и неизменен. Бог не стареет, не меняется.
В византийских и русских иконах это отмечено тремя греческими буквами в крестчатом нимбе Христа. На древнерусский язык это переводится как «сущий», то есть тот, к кому сразу относится «всегда был», «всегда есть» и «всегда будет», что восходит к древнееврейскому сокровенному имени Бога - Яхве - Сущий.
Бог создал мир, и «началось» время. Оно началось и окончится, когда наступит второе пришествие Иисуса Христа, «когда времени больше не будет». Таким образом, и само время оказывается чем-то «временным», преходящим. Оно как лоскут, «кусочек» на фоне вечности, на котором Бог реализует свой промысел, сотворив Адама, изначально зная и судьбу его потомков. И каждое событие в жизни людей является выражением всемогущества Божия, но никак не результатом самодеятельности людей.
Замысел Божий уже - то есть всегда - существует во всей полноте, которая вмещает в себя все: время, историю, жизнь, все предметы, всех людей, все события, и всему определено свое место. Таким образом, причина любого события не определяется в нашем земном мире, а уже существует, но в мире ином, а само событие есть знамение, то есть локальное проявление промысла Божьего на «лоскуте времени». Бог - источник всего, что уже было, и что когда-то будет (по меркам нашего человеческого времени).
![]()
Рождество Христово. ц. Успения Богородицы в Дафни. 2 п. 11 в.
Такое понимание и жизни отдельного человека, и жизни народа отразилось в характере русских летописей.
Летописи - это скрупулезное перечисление событий, «пронумерованных» летописцем годами и «расставленных по порядку», который установлен для них «там». И летописи являются набором упорядоченных иллюстраций, ячеек мозаичного панно, которое в свою очередь есть лишь фрагмент картины мира, картины, которая во всей полноте уже написана Богом и существует в вечности.
Земная жизнь человечества - это и есть конечное время - промежуток между сотворением мира и человека и вторым пришествием, это лишь скоротечное испытание перед вечностью, когда времени больше не будет. Прошедших это испытание ждет жизнь вечная, совершенная, а значит, неизменная.
![]()
Николай Чудотворец (поясной) с избранными святыми. Новгород. 13 в.
Святые, изображенные на древних иконах, уже сподобились вечной жизни, в которой нет движения и изменения в обычном смысле слова. И сложенные в благословляющем жесте пальцы правой руки - это послание оттуда - из царствия не от мира сего. Тонкие чуткие пальцы приподняты без усилия и напряжения. Они не имеют веса, ибо в том мире нет тяжести. Взгляд святого с иконы на нас - это взгляд из глубины запредельного мира, это вопрос из вечности. Он не затуманен страстями, и поэтому лишь в редкие моменты духовного просветления мы можем ответить на этот взгляд. Вот почему глаза, смотрящие на нас с икон, так тревожат, рождая и беспокойство, и страх, и надежду.
Изображенное на древних русских иконах не подразумевает, таким образом, ни пространственной, ни временной локализации в традиционном понимании. Образ подразумевается внепространственным и вневременным.
А то, что иногда можно принять за неподвижность, следует понимать как движение, но не во времени, а в вечности.
![]()
Спас. Из деисусного чина.
прп. Андрей Рублев.
Москва, 1410-е годы
Глаза, обращенные к нам из вечности, все видят, все понимают, все объемлют. И именно потому, что во взгляде Спасителя можно найти все, ответы на все, к Нему могут прийти, к Нему могут обратиться за помощью и советом все всегда.
Особое понимание времени и пространства в древнерусском иконотворчестве носило принципиальный догматический характер.
Вот почему, когда во второй половине XVII века в русском иконописании стали проявляться влияния западной живописи, это вызвало негодование и протест. Причина тому не только и не столько в консерватизме догматических основ и принципов иконотворчества, сколько в опасении извращения самого существа и смысла иконы. «Будто живые писать» на иконах нельзя. С этим трудно не согласиться. Святые пребывают в мире ином, в вечности, а не живут земной бренной жизнью, измеримой временем и проявляющейся в изменениях.
Это объясняет, почему иконотворчество или иконопись не вполне уместно называть живописью.
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? - безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Г. Р. Державин
Существует много теорий восприятия, в том числе зрительного; некоторые из них обладают большой объяснительной силой, но опыт создания систематической истории восприятия вряд ли возможен. Подобный опыт, будь он предпринят, сомкнулся бы с историей человеческого рода. В самом деле, возможна ли история глаза самого по себе, вне контекста * человеческой деятельности?
Сказанным, однако, не отменяется вопрос о происхождении и эволюции * органов восприятия. Высказывались соображения в пользу первичности тех чувств, которые прямо передают организму биологически важную информацию. «Не исключено, что развитие шло по пути преобразования примитивной нервной системы, реагирующей на прикосновение, в зрительную систему, обслуживающую примитивные глаза, поскольку кожный покров был чувствителен не только к прикосновению, но и к свету. Зрение развилось, вероятно, из реакции на движущиеся по поверхности кожи тени - сигнал близкой опасности. Лишь позднее, с возникновением оптической системы, способной формировать изображение в глазу, появилось опознание объектов» .
Разумеется, в дальнейшем нас будут интересовать не примитивные формы зрения, но зритель, каким он предстает в развитом человеческом обществе, в высокоорганизованной системе культуры. В приведенном рассуждении существенны для нас два момента: во-первых, то, что образование самого органа восприятия связано с деятельностью организма в целом, и, во-вторых, то, что развитие органов восприятия осуществляется путем преобразования деятельности. Понятие «деятельности» оказывается здесь ключевым, что чрезвычайно важно для понимания вопросов, которые будут обсуждаться ниже.
В отношении «изображение - зритель» наблюдается такая тесная связь, что одно трудно помыслить вне другого.Изображение изначально ориентировано на зрителя и, стало быть, реализует собою те или иные зрительные потенции *. «Созерцатель картины,- писал Гегель,- с самого начала как бы соучаствует, включаясь в нее...» .
Возникает соблазн рассматривать изображения как своего рода «документы» зрительной деятельности, и тогда изобразительность предстает гигантским «архивом», в котором заключена вся история зрения. Не имея возможности прямого общения со зрителем минувших эпох, мы обращаемся к изображениям, и они свидетельствуют о том, как видели мир наши предки. Но как бы ни был соблазнителен подобный взгляд на вещи, он несоответствуетисторической реальности. Дело в том, что изобразительность никогда не ограничивалась и не могла быть ограничена данными зрительного опыта, так как сами эти данные могут быть четко выделены лишь в специальных лабораторных условиях, а человеческая история, в том числе и изображенная, отнюдь не является последовательной сменой таких лабораторных сред. Это необходимо помнить, ибо до сих пор некоторые авторы склонны полагать, что правильно организованная изобразительная деятельность восходит к копированию оптических образов.
На ранних этапах своего развития изобразительность тесно сопряжена с другими видами деятельности, и роль изображений не сводится к тому, чтобы служить объектами эстетического созерцания. Между древнейшими формами изобразительности и тем, что мы называем изобразительным искусством,- огромная дистанция.
Остановлюсь на некоторых примерах.
Изображение и зритель: из предыстории взаимоотношений
Известный исследователь первобытной культуры А. Леруа-Гуран, определяя роль палеолитических изображений, прибегнул к весьма характерному иносказанию: «От палеолита * дошли до нас лишь декорации (курсив мой.- С. Д.), а не сами действия, следы которых редки и непонятны. И мы подобны тем, кто пытается восстановить пьесу, не видев ее,по пустой сцене,где написаны, например, дворец, озеро и лес в глубине». Положение исследователя древнейших изображений еще более осложняется тем, что «декорации» представляют собой малоупорядоченное множество знаков; во всяком случае, делать какие-либо заключения о способах соотнесения знаков очень трудно из-за отсутствия достаточно четких пределов, в которых осуществлялось это соотнесение (если оно вообще осуществлялось). Ученый оказывается как бы в заколдованном кругу: «пьеса» неизвестна, но существуют «декорации», однако эти последние не представляют собой чего-либо внутренне организованного, связного и могут быть понятны только из текста «пьесы».
Палетка Нармера Конец 4 тысячелетия до н. э. Каир, Египетский музей
Тем более уместна ирония Леруа Гурана по отношению к историкам, которые склонны модернизировать изображения пещер, где «бородатые „мэтры" перед охотой на медведя и после нее рисовали силуэты мамонтов и мясистых женщин» . Не менее очевидной модернизацией было бы представление о пещерной живописи как своего рода экспозиции, где в часы, свободные от занятий, толпятся первобытные любители искусства.
И много тысячелетий спустя положение вещей может вызвать затруднения, аналогичные указанным выше. Любопытно, что назначение такого сравнительно позднего памятника, как палетка Нармера (Египет, конец 4 тысячелетия до н. э.), не поддается однозначному истолкованию: искусствовед видит в нем сложившиеся формы изобразительного искусства , а с точки зрения историка письма он представляет собой надпись 2. Таким образом, изображение было ориентировано как на зрителя, так и на читателя. Впрочем, естественно полагать, что для создателя этой картины-надписи позиции зрителя и читателя не были принципиально разделены. Возможность такого совмещения позиций объясняется тем,что изобразительность и письмо в течение многих веков функционировали слитно, как единая знаковая система. «Изучение последовательных ступеней исторического развития любого письма неопровержимо доказывает, что геометрическая форма знаков является результатом схематизации рисунков. Во всех известных древних письменностях,таких, как шумерское, египетское, китайское и т. д. письмо, с течением времени развилась линейная, курсивная форма, которая так далеко отошла от первоначальных рисунков, что без знания промежуточных ступеней подчас невозможно установить, к какому рисунку можно возвести ту пли иную линейную форму» 3.
Вот чем во многом объясняется изобразительность древнего письма и специфическая условность приемов древнего искусства. Можно сделать простой вывод: форма сама по себе не позволяет судить, о значении и назначении произведения. Опора лишь на внешнюю форму произведения чревата опасностью серьезных заблуждений. Так, изображение может входить и действительно входит в различные ансамбли, где сами его изобразительные качества оказываются второстепенными. Иными словами, сфера изобразительности неизмеримо шире той сферы, которую мы именуем изобразительным искусством.
Соответственно, и зрительная способность в таких ситуациях является лишь средством реализации иных культурных функций. Однако продолжим рассмотрение взаимоотношений изображения и зрителя в различных культурно-исторических традициях.
Античная мифология и история
Высокоразвитая изобразительная культура античной Греции дает богатейший материал для разработки интересующего нас вопроса. Разумеется, здесь невозможно проследить эволюцию взаимоотношения «изображение - зритель» в античном искусстве; речь пойдет лишь о некоторых принципиально важных чертах этого взаимоотношения.
Прежде всего необходимо указать на принцип жизнеподобия, общеизвестной формулой которого служит миф о Пигмалионе.
Белоснежную он с неизменным искусством
Резал слоновую кость.
И создал он образ,- подобной
Женщины свет не видал,- и свое полюбил он созданье!
Девушки было лицо у нее; совсем - как живая,
Будто бы с места сойти она хочет, да только страшится.
Вот до чего было скрыто самим же искусством искусство!.
«Совсем как живая» - вот в чем безусловная ценность произведения. Скульптор и обращается с возлюбленным изваянием, как с живым существом:
Он ее украшает одеждой.
В каменья Ей убирает персты, в ожерелья - длинную шею.
Легкие серьги в ушах, на грудь упадают подвески.
Все ей к лицу....
По воле Венеры (Афродиты) ваятель вознагражден: кость стала плотью, дева и в самом деле ожила, счастливый художник обрел живую жену.
Тема оживающего произведения, живого изображения - сквозной мотив античной культуры в целом. Чудесное превращение, которым в мифе разрешается страсть к изображению, есть как бы идеальный итог общения античного зрителя с произведением искусства. Эффект восприятия тем полнее, чем более изображение выдает себя за действительность. В скульптуре подобный эффект обретает совершенное воплощение, и, может быть, именно поэтому миф о Пигмалионе стал наиболее полным выражением чаяний античного зрителя. По словам современного эстетика, «греки и римляне чуть не до тошноты восхищались теми скульптурами, которые выглядели, как „живые", как „настоящие"» . К этому следует добавить целую группу очень популярных в античности анекдотов о том, как мастерство живописцев обманывало зрителей - притом не только людей, но и животных (птицы слетаются клевать изображенный виноград, лошадь ржет при виде изображенной лошади и т. п.).
Означает ли все это, что изображение достигло здесь той ступени исторического развития, на которой оно воплощает художественную ценность как таковую и становится объектом бескорыстного созерцания? Иными словами, является ли оно зрителю как нечто художественно-самодостаточное?
«...Изобразительное искусство греческой архаики * и классики *,- пишет Н. В. Брагинская,- не изолировано от сферы игровой и действенной, обрядовой и зрелищной (что, впрочем, характерно для изобразительного искусства архаических * и экзотических * культур). Изображение не помещают ни в музей, ни в галерею и не предназначают для чистого созерцания. С ним что-то делают: поклоняются ему, украшают его цветами и драгоценностями, приносят ему жертвы, кормят, моют, одевают, молятся ему, то есть обращаются к нему с речью, и т. п. Изображение подвижно само, как автоматы, или его возят на телеге в процессии, оно зрелищно и, так сказать, театрально. С ним можно вести беседу» . И далее автор заключает,что «произведения изобразительного искусства», как называет эти вещи позднейшая эпоха, существовали и действовали внутри быта и культа, будучи пособием для театрального представления, обучения, фокуса и т. д.
Стоит отметить, что к собственному мифотворчеству античного искусства позднейшая эпоха добавила вновь созданные мифы об искусстве древности. Так возник миф о «беломраморной» античности. Между тем сейчас хорошо известно, что греческая скульптура была полихромной (многоцветной). Статуи раскрашивались, как правило, восковыми красками, сохранилось немало памятников со следами раскраски. Более того, и храмы были разноцветными.
Возникает, казалось бы, парадоксальная ситуация: произведения, обладающие достоинствами, безусловная художественная ценность которых очевидна для позднейшей культуры, своим происхождением обязаны эпохе религиозно-мифологического сознания и функционально соотнесены со сферой культа, являются его атрибутами *. Неужели высокое искусство античности - побочный продукт вне художественной деятельности?
Действительно, перед подобным противоречием не раз застывала мысль, занимавшая абстрактную *, внеисторическую позицию. Не следует, однако, забывать, что сами мифологические представления древних не были отделены от освоения живой действительности, а, напротив, выявляли себя в формах этой действительности. Стало быть, античная мифология во многом способствовала накоплению и воплощению чувственно-конкретного опыта. Так антропоморфизм (человекоподобие) античной религии содействовал культу тела, с чем связано развитие соответствующей творческой практики и создание образцов, соперничающих с самой реальностью.
То, что делают с изображением, не исчерпывает смысла и ценности его существования. Развитие изобразительной деятельности в сравнительно благоприятных условиях приводит к образованию особых трудовых (творческих) навыков и навыков восприятия, к преобразованию культурной среды. Не только культ и культура воздействуют на изобразительную деятельность, но и последняя осуществляет активное воздействие на весь идеологический ансамбль, постепенно приобретая права на известную самостоятельность. Если бы дело обстояло иначе, мы столкнулись бы с совершенно анонимной деятельностью, а между тем многие имена античных живописцев и скульпторов пользовались громкой славой. С наиболее известными из них связывались крупные художественные открытия. Полигнот был мастером многофигурных композиций, украсивших стены общественных зданий; Агафарх, театральный декоратор, считался «отцом» античной перспективы *; Аполлодор был признан первооткрывателем светотени, за что и получил прозвище «Скиаграф», то есть «живописец юной» . Этот перечень можно продолжить именами знаменитых живописцев - Зевксиса, Паррасия, Тиманфа, Никия, Апеллеса, столь же прославленных ваятелей - Фидия, Мирона, Поликлета, Мраксителя, Скопаса, Лисиппа и многих других.
Между изображением и зрителем устанавливается несимметричное отношение: автор произведения и само произведение известны, у них есть имя, зритель анонимен. Античное изображение имеет характерную публичную направленность, оно обращено к целому коллективу зрителей. Не случайно в эпоху поздней античности пластические искусства ставятся в один ряд с поэзией и мудростью. Ваятель и живописец выступают в роли мудреца и учителя.
О степени профессионализма античных мастеров можно судить по «Естественной истории» Плиния Старшего, в частности по фрагментам о прославленном живописце Апеллесе, наивысший успех которого историк относит к рубежу 30-20-х годов 4 века до н. э.
«Известно, что произошло между ним и Протогеном, который жил в Родосе. Туда приплыл Апеллес, жаждая познакомиться с его картинами, известными ему только по рассказам. И он прямо направился в мастерскую Протогена; того не было дома, и одна старуха караулила картину большого объема, поставленную на мольберт. Она заявила, что Протогена нет дома, и спросила, как ей сказать, кто его спрашивал. „Вот кто",- сказал Апеллес и, схватив кисть, провел цветную линию чрезвычайной тонкости. Когда Протоген вернулся, старуха рассказала ему, что было. Передают, что художник, увидев такую тонкую линию, заявил, что это приходил Апеллес, потому что такая совершенная работа никому другому не подходит, и сам по той же самой линии провел другую, еще более тонкую, только другого цвета. Уходя, Протоген наказал старухе показать, в случае возвращения приезжего, эту линию и прибавить, что это тот, кого он спрашивает. Так оно и случилось. А именно Апеллес вернулся и, стыдясь грозившего ему поражения, пересек обе линии третьей опять нового цвета, не оставляя более уже никакой возможности провести еще более тонкую линию. Протоген признал себя побежденным, немедленно устремился в гавань, и было решено, чтобы эта картина в таком виде была сохранена для потомства, всем, и особенно художникам на удивление. Как слышно, она сгорела во время первого пожара при Августе (4 г. н. э.), когда на Палатине сгорел императорский дворец. Видевшие ее раньше передают, что эта обширная картина ничего не содержала, кроме линий, едва приметных для глаза, и среди прекрасных произведений многих художников была похожа на пустую, и как раз этим самым она привлекала к себе внимание и была знаменитее всякого другого произведения» .
О достоверности рассказа судить очень трудно; может быть, это еще один вариант мифа, которыми столь богата античность. Однако сам характер истории, включая подробности о мастерской, мольберте и т. п., а главное - представление о возможности узнать имя мастера по начертанной им линии,- красноречивые свидетельства отношения к живописи.
А вот картина взаимоотношений художника с публикой.
«Апеллес не проводил ни одного дня без рисования, так что от него и пошла поговорка „ни один день без линии". Так как свои картины он выставлял на балконе для обозрения публики, то однажды проходивший сапожник заметил ему, что на сандалиях он сделал внизу на одну привязку для ремня меньше. Апеллес исправил это. Когда же сапожник возомнил себя после этого знатоком искусства, то стал делать замечания и относительно голени. Тогда Апеллес с негодованием заявил, чтобы он судил „не выше обуви". Отсюда тоже пошла известная поговорка» .
Русскому читателю эта история хорошо известна по стихотворной притче А. С. Пушкина «Сапожник».
Будто для того, чтобы читатель не заподозрил Апеллеса в надменности по отношению к простому люду. Плиний рассказывает об аналогичной ситуации, когда на месте сапожника оказался Александр Македонский. Находясь в мастерской художника, царь пустился было в длинные рассуждения, но Апеллес «ласково посоветовал ему молчать, говоря, что над ним смеются мальчишки, растиравшие краски» \69, с. 637].
В соседстве этих примеров характерно то, что и безымянный сапожник, и сам Александр лишаются права соперничать с художником, когда речь идет об искусстве в целом. Целостным знанием и правом суждения обладает лишь тот, кто на деле владеет искусством. И даже посчитав свидетельства Плиния пересказом популярных анекдотов, нельзя уйти от вопроса, почему такие анекдоты возникли и получили широкое распространение в античном обществе.
Античный экскурсовод

Фреска виллы Мистерии 1 в. до н. э. Помпеи
Выше я говорил о безымянности античного зрителя; это положение, справедливое в целом, нельзя принять без оговорок. Во-первых, сохранились имена покровителей искусств: достаточно употребить слово «меценат» *,чтобы вспомнить об имени, прославившемся как раз благодаря такому покровительству. Вовторых, сохранились имена авторов, помимо прочего писавших об искусстве и о публике.
Среди них особый интерес представляют Филостраты (2-3 вв. н. э.), от которых до нас дошли два сочинения под одинаковым названием - «Картины» (или «Образы») 4. В лице этих авторов мы встречаем образцовых, высокоразвитых зрителей живописного произведения.
В предисловии к своему сочинению Филострат Старший сообщает о галерее, в которой некий меценат (имени автор не называет) со знанием дела собрал и выставил пинаки, то есть отдельные картины на досках. «Классическая древность,- комментирует современный исследователь,- конечно, знала художественные собрания, но это были культовые посвящения богам. Коллекции таких посвящений постепенно превращали храм в музей. Так, Гереон на Самосе во времена Страбона представлял собой художественную галерею, кроме того, в классический период существовали портики, украшенные, как Пестрая Стоя в Афинах, росписью. Но все же это не были частные собрания, светские коллекции, доступные посетителям. Филострат едва ли не первый автор, сообщающий о такой стое-галерее...» . Есть веские основания считать эту галерею вымышленной, хотя до сих пор некоторые ученые склонны видеть здесь описание реально существовавшего собрания картин 5.
Так или иначе, важна сама возможность подобной ситуации. Действие, представляемое Филостратом, имеет как бы диалогический характер. В галерее прогуливается ученый ритор *, к нему обращается сын хозяина, мальчик лет десяти, с просьбой растолковать картины. «Он меня подстерег, когда обходил я эти картины, и обратился ко мне с просьбой разъяснить ему их содержание... Я сказал ему: „Пусть будет так; о них я прочту тебе лекцию, когда соберется вся остальная молодежь"» . Собирается целая группа юных слушателей, и знаток ведет их по галерее, останавливаясь перед каждой картиной и описывая ее.
Таким образом, мы имеем здесь все компоненты музейной ситуации: помещение, предназначенное для экспозиции живописи, саму экспозицию, состоящую из нескольких десятков картин, зрителей, хотя и неискушенных, но очень любознательных, и, наконец, ученого экскурсовода, знатока искусства.
Во введении автор пишет: «Кто не любит всем сердцем, всею душою живописи, тот грешит перед чувством правдивой наглядности, грешит и перед научным знанием... Она может изобразить и тень, умеет выразить взгляд человека, когда он находится в яростном гневе, в горе или же в радости. Ваятель ведь меньше всего может изобразить, какими бывают лучи огненных глаз, а художник по краскам знает, как передать блестящий взгляд светлых очей, синих или же темных; в его силах изобразить белокурые волосы, огненно-рыжие и как солнце блестящие, передать он может цвет одежд, и оружия; он изображает нам комнаты и дома, рощи и горы, источники и самый тот воздух, который окружает все это» .
Никогда еще античный автор не превозносил живопись до такой степени, и пройдет немало времени, прежде чем мы встретимся с подобным ее восхвалением (у Леонардо да Винчи, например). В устах Филострата художник становится как бы новым Пигмалионом, с тем различием, что прежде это был скульптор, а теперь это именно живописец, «художник по краскам». Историки и филологи не раз отмечали уникальность ослепительного колорита «Картин»; весь текст представляет собой необычайно яркий опыт словесной живописи, буквально принуждающий читателя стать зрителем. Полезно подчеркнуть, что о зрителе, о глазах, о взорах Филострат говорит очень и очень много, причем речь идет не только о живых зрителях, но и о тех, кто изображены в картинах «как живые». Более того, знаток призывает юношей присоединиться к изображенным зрителям, соучаствовать с ними в созерцании.
О картине «Болото»: «Видишь ты уток, как они плавают по поверхности вод, пуская кверху, как будто из труб, струи воды? (...) Смотри! Из болота вытекает широкая река и медленно катит свои воды...» .
О картине «Эроты»: «Смотри! Яблоки здесь собирают эроты» .
А вот более подробное описание картины «Рыбаки»: «Теперь посмотри на эту картину; ты увидишь сейчас, как происходит все это. Наблюдатель смотрит на море, взор его перебегает с места на место, чтоб выяснить все их число. На голубой поверхности моря цвет рыб различный: черными кажутся те, которые плывут верхом; менее темными те, которые идут за ними; те же, что движутся следом за этими, и совсем незаметны для взора: сначала их можно видеть, как тень, а потом они с цветом воды совершенно сливаются; и взор, обращенный сверху на воду, теряет способность что-либо в ней различать. А вот и толпа рыбаков. Как прекрасно они загорели! Их кожа, как светлая бронза. Иной закрепляет весла, другой уж гребет; сильно вздулись у него мускулы рук; третий покрикивает на соседа, подбодряя его, а четвертый бьет того, кто не хочет грести. Радостный крик поднимают рыбаки, как только рыба попала в их сети...» .
Пусть вся ситуация придумана Филостратом, пусть все - галерея, зрители и сами картины - плод вымысла, созданного в риторических целях, для наибольшей убедительности. Тогда текст представляет собой не свидетельство о действительном состоянии живописи, но живое воплощение желаемого ее состояния и вместе с тем определение ее задач. Любопытно, что Филострат Младший как раз и формулирует принцип живописного искусства: «В этом деле обман приносит всем удовольствие и меньше всего заслуживает упрека. Подойти к вещам несуществующим так, как будто бы они существовали в действительности, дать себя ими увлечь, так, чтобы считать их действительно как бы живыми, в этом ведь нет никакого вреда, а разве этого не достаточно, чтоб охватить восхищением душу, не вызывая против себя никаких нареканий?» И тут же, сближая живопись и поэзию, он пишет: «...Общей для них обеих является способность невидимое делать видимым...» .
Возможно, эта формулировка возникла у Филострата Младшего не без влияния его деда, если предположить, что несуществующую галерею тот сделал как бы существовавшей в действительности. Но еще более интересно сближение этой формулы с мыслью Анаксагора о зрении «как явлении невидимого . В этом смысле зритель у обоих Филостратов есть произведение живописи, тот, чья способность видеть обусловлена явлением искусства.
Так или иначе, античность создала предпосылки для сложения тех взаимоотношений между художником и зрителем, которые характеризуют относительно автономное * положение искусства в обществе. Хотя живопись древних почти не дошла донас,есть основания утверждать, что в античном искусстве сформировались необходимые условия для возникновения картины как самостоятельного художественного организма - картины в том смысле, в каком культивировало ее классическое искусство Европы. Вместе с тем и зритель сделал шаг из предыстории в историю художественного восприятия.
«Осязающий» глаз
Судя по многим памятникам античной культуры, можно с уверенностью сказать, что человек той эпохи прекрасно владел зрительными способностями, умел извлекать из зрительного опыта богатейшую информацию и полноценно использовать ее в самых различных сферах деятельности. Что же касается представлений о самом устройстве зрительного аппарата и о процессах восприятия, то они были в значительной степени представлениями мифологическими.
Согласно Платону, способность зрения дарована людям богами: «Из орудий они прежде всего устроили те, что несут с собой свет, то есть глаза, и сопрягли их [с лицом] вот по какой, причине: они замыслили, чтобы явилось тело, которое несло бы огонь, не имеющий свойства жечь, но изливающий мягкое свечение, и искусно сделали его подобным обычному дневному свету. Дело в том, что внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня: его-то они заставили гладкими и плотными частицами изливаться через глаза; при этом они уплотнили как следует глазную ткань, но особенно в середине, чтобы она не пропускала ничего более грубого, а только этот чистый огонь. И вот когда полуденный свет обволакивает это зрительное истечение и подобное устремляется к подобному, они сливаются, образуя единое и однородное тело в прямом направлении от глаз, и притом в месте, где огонь, устремляющийся изнутри, сталкивается с внешним потоком света. А поскольку это тело благодаря своей однородности претерпевает все, что с ним ни случится, однородно, то стоит ему коснуться чего-либо или, наоборот, испытать какое-либо прикосновение, и движения эти передаются уже всему телу, доходя до души: отсюда возникает тот вид ощущения, который мы именуем зрением».
С другой стороны, было выдвинуто и нашло убежденных защитников представление о «призраках», или «слепках», которые отделяются от освещенных тел и попадают в глаз. Так считал Эпикур, а пропагандистом его учения выступил Лукреций, автор научно-философской поэмы «О природе вещей»:
Есть у вещей то, что мы за призраки их почитаем;
Тонкой они подобны плеве, иль корой назовем их,
Ибо и форму и вид хранят отражения эти,
Тел, из которых они выделяясь, блуждают повсюду.(...)
Ясно теперь для тебя, что с поверхности тел непрерывно
Тонкие ткани вещей и фигуры их тонкие льются. (...)
Дальше, раз ощупью мы, осязая любую фигуру,
Можем признать в темноте ее тою же самой, что видим
Мы среди белого дня, в освещении ярком, то, значит,
Сходным путем возбуждаются в нас осязанье и зренье.(...).
В представлении о зрительных «щупальцах», протянутых из глаза, и в представлении о попадающих в глаз «моделях» вещей есть нечто общее, близкое к мысли об осязательной способности зрения. Зрение как тонкое и далеко распространенное осязание - это мысль не только сама но себе очень глубокая, но и способная объяснить многое в искусство античности 6.
Таким образом, в «оптике детей и поэтов» заключены глубокие научные прозрения, и мы не вправе пренебрегать античной «мифологией глаза».
Наконец, уже в античную эпоху была высказана поистине замечательная догадка о том, что глаз является неотъемлемой частью мозга. Мысль эта принадлежит Галену, выдающемуся римскому медику, автору блестящих физиологических экспериментов. Несмотря на ряд ошибочных представлений, которые Гален разделял со своими современниками (лучи, исходящие из глаз, хрусталик как светочувствительный орган и др.), его идею о «заключенной в глазу части мозга» трудно переоценить [см.: 38, с. 25- 32].
«Внемлющий» глаз
«Невидимое делать видимым» - так сформулировала задачу живописи поздняя античность устами Филострата Младшего. Живописец идет по пути от незримого к зримому и увлекает за собой зрителя: «Смотри!»
В эпоху средневековья направление этого процесса кардинально изменяется. Изображение истолковывается как посредник на пути от зримого к незримому, и, соответственно, та же ориентация предписана восприятию зрителя. Возникает психологически парадоксальная ситуация:, чтобы лучше воспринять ТО, зримым представителем чегоявляется изображение, следует отказаться от... самого зрения.
«Средневековый художник,- формулирует эту ситуацию И. Е. Данилова,- представлял себе мир умозрительно: фигуры, предметы, пейзаж в любом средневековом произведении расположены так, как их никогда нельзя увидеть; в таком отношении друг с другом их можно только представить себе, вообразить, сконструировав общее из отдельных элементов, как конструируют формулу. Но для этого нужно закрыть глаза: зрение мешает, визуальные *впечатления затемняют, разрушают цельность и закономерность общей картины» . И далее: «И средневековый зритель, так же как средневековый художник, был настроен на этот умозрительный характер восприятия. „На нарисованное следует телесным оком смотреть так, чтобы разумением ума постичь и то, что не может быть нарисовано". Человек средневековья был твердо уверен, что многого, самого главного „телесное око не может увидеть в картине", ибо „этого нельзя показать на плоскости". Художник не в силах полностью воплотить идею произведения через зримые образы, а зритель не может воспринять ее чисто зрительно: главное можно только представить себе мысленно - „все сие испытуется разумением сердца"» .
Обращение Савла Миниатюра из Христианской Топографии Козьмы Индикоплова. Последняя четверть 9 в. Ватикан, библиотека (Прорисовка)
Изобразительные элементы приобретают характер условных знаков, а изображение организуется в особого рода текст. Средневековая изобразительность в целом составляет некий род письменности, где используются, в частности, уже известные нам описательно-изобразительные и приемы.

Школа Феофана Грека. Преображение Начало 15 в. Москва. ГТГ
Рассмотрим миниатюру «Обращение Савла» из Христианской Топографии Козьмы Индикоплова (поел, четв. 9 в.; Ватикан, Библиотека). Сочинение этого купца, под конец жизни принявшего монашество, имело в средние века огромное значение, как богословское, так и космографическое *, содержавшее истолкование судеб человечества и устройства мира .
Согласно новозаветному тексту, Савл, ярый гонитель христианского учения, отправился из Иерусалима в Дамаск, «чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». На пути к Дамаску «внезапно осиял его свет с неба»; Савл упал на землю и услышал голос Христа. Приведенный в Дамаск, Савл три дня не видел, не ел и не пил. Здесь к нему явился Анания и передал веление Иисуса. Савл прозрел, крестился и принял имя Павла.
Миниатюра объединяет несколько сцен. В верхней части помещены условные изображения Иерусалима (слева) иДамаска (справа). Между ними - сегмеЕгт (символ неба) с отходящими от пего лучами. Под изображением Иерусалима - Савл и его спутники, осиянные небесным светом, еще ниже - упавший на землю Савл. Справа, под изображением Дамаска, помещены Савл и Анания. В центре, выделенный крупным размером,- Савл, принявший крещение, то есть апостол Павел. Нее изображения сопровождены соответствующими надписями.
Миниатюра дает наглядный пример перенесения принципа словесного повествования в изобразительность. В сущности,мы имеемдело с рассказом, в котором слова заменены изобразительными знаками, а фразы - условно изображенными сценами. Это своеобразно сокращенное изложение новозаветного текста. Пространство миниатюры в целом остается безучастным к развертыванию сюжета, к действиям его героев; единая пространственная среда отсутствует в зримом образе действия. Не случайно в изображение введены сопроводительные надписи, являющиеся как бысредством компенсации недостаточной внутренней связности.
Могут возразить, что миниатюра но своей функции иллюстративна, что ее специфика определена вхожтнием в ансамбль письменного текста, свойства которого она и перенимает. Однако тот же принцип распространяется на икону. Нил Синайский писал, что иконы находятся в храмах «с целью наставления в вере тех. кто не знает и не может читать священное писание». Ту же самую мысль высказал папа Григорий Великий: неграмотные люди, смотря на иконы, «могли бы прочесть то, чего они не могут прочесть в рукописях». По словам Иоанна Дамаскина, «иконы являются для неученых людей тем, чем книги для умеющих читать; они - то же для зрения, что и речь для слуха». Число подобных примеров легко умножить .
Достаточно сопоставить рассмотренную выше миниатюру с таким поздним памятником, как икона «Преображение» школы Феофана Грека (нач. 15 в.; Москва, ГТГ), чтобы убедиться в устойчивости основных принципов организации изображения па протяжении длительного исторического периода. Во всяком случае, очевидно сохранение тесной связи иконной композиции с организацией словесного текста. Разумеется, в собственно художественном смысле памятники далеко не равноценны, однако критерии художественной оценки в данном случае следует применять с большой осторожностью.
Средневековье дает множество свидетельств истолкования изображения как «литературы неграмотных». Исключительно ярко этот принцип выражен в итальянских иллюстрированных рукописях «Экзультет» («Возрадуйтесь»),называемых так по начальному слову пасхального гимна, который сопровождал момент освящения огромной пасхальной свечи. «Рукописи эти сохраняют старинную форму свитка, текст перерезает множество иллюстраций, сделанных с таким расчетом, чтобы их могли разглядывать посетители храма. Для этого они помещены вверх ногами по отношению к тексту. Разворачивая свиток по мере чтения, священник спускает его конец с кафедры, перед которой стоят прихожане. Столь же необычны, как форма рукописей, и миниатюры. Наряду с евангельскими и ветхозаветными сценами, здесь можно видеть и чтение рукописи „Экзультет" в храме, и обряд зажигания свечи, и приготовление ее, и пчелиные ульи, откуда добывается воск, и даже вьющихся вокруг цветов пчел» .
Южный портал церкви Сен Пьер в Муассаке 1115-1130
Миниатюра, икона, фреска, витраж, рельеф - все основные формы средневековой изобразительности являются звеньями целостного ансамбля, вне которого они не могут быть правильно восприняты и поняты.
Необходимо ясно сознавать степень отличия музейной экспозиции иконописи от действительных условий ее культурно-исторического бытия. Вынесенная за пределы той среды, того культурного организма, компонентом которого она являлась, икона уподобляется фразе, вырванной из текста. Глубокий знаток древнерусской культуры П. А. Флоренский писал об этом: «...Многие особенности икон, которые дразнят пресыщенный взгляд современности: преувеличенность некоторых пропорций, подчеркнутость линий, обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, парчевые, бархатные и шитые жемчугом и камнями пелены - все это, в свойственных иконе условиях, живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый, безусловно неустранимый, единственный способ выразить духовное содержание иконы, то есть как единство стиля и содержания, или иначе - как подлинная художественность. (...) Золото - условный атрибут мира горнего, нечто надуманное и аллегорическое * в музее - есть живой символ, есть изобразительность в храме с теплящимися лампадами и множеством зажженных свечей. Точно также, примитивизм иконы, ее порой яркий, почти невыносимо яркий колорит, ее насыщенность, ее подчеркнутость есть тончайший расчет на эффекты церковного освещения. (...) В храме, говоря принципиально, все сплетается со всем: храмовая архитектура, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь. (...) Вспомним о пластике и ритме движений священнослужащих, например при хождении, об игре и переливах складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами горящих огней, вспомним далее, что синтез храмового действа не ограничивается только сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию,поэзию всех видов, сам являясь в плоскости эстетики - музыкальною драмой. Тут все подчинено единой цели...» .
Для характеристики зрительского коллектива средних веков вполне применимо слово «аудитория», ибо зритель не столько созерцает, сколько внемлет. Образы и образцы такого зрителя мы находим в самих изображениях, прежде всего в тех, что воплощают иконографическую * формулу «передачи благой вести», отмеченную двумя специфическими жестами: рука «говорящая» и рука «слушающая». «При этом передающий и принимающий не обязательно должны были находиться в пределах единой композиции. Поскольку духовная истина незрима и неощутима, сообщение ее не требует непосредственного контакта - это как бы вещание в эфир, которое может быть принято не только теми, кому оно непосредственно направлено, но и всяким, кто хочет услышать: „Имеющий ухо да слышит!" (Иоанн Богослов)» . Иными словами, сообщение это, транслируемое через изображение, направлено потенциально безграничной аудитории.
В данной связи полезно отметить сравнения иконописца со священником, которые встречаются в русских иконописных «подлинниках» (то есть специальных руководствах для иконописцев): иконописец подобен священнику, божественным словом оживляющему плоть. Отсюда следует и запрет на злоупотребление способностью «оживления плоти», дабы изображение не перешло в чуждую, чисто чувственную сферу восприятия. Кроме того, важно отметить сходство в отношении к иконе и к священной книге: так, например, лобызание иконы подобно целованию Евангелия .
Из всего сказанного следует, что истолкование средневекового изображения с позиций чисто зрительных может сильно исказить действительное положение вещей; визуальный * опыт - лишь один из компонентов средневековой изобразительности, притом далеко не главный. Данные зрительного опыта (как и чувственного опыта в целом) использовались средневековым живописцем постольку, поскольку они соответствовали воплощению умопостигаемых образов; иными словами, эти данные служили лишь строительным материалом. Поэтому всякая попытка переложить средневековое изображение на чисто визуальный лад оборачивается противоречием самому духу этой культуры, как если бы мы, скажем, задались целью представить ангела в натуральную величину (!). В этом отношении античность и средневековье расходятся принципиально.

Благовещение Витраж собора Сен Этьен в Бурже Ок. 1447-1450

Ф. Штосе. Молитва пресвятой деве 1517 - 1518. Нюрнберг церковь св. Лаврентия

Джотто. Поцелуй Иуды Фреска Капеллы дель Арена в Падуе Между 1305 и 1313
Что же касается научных представлений об устройстве и работе глаза, то здесь средневековье скорее наследовало и консервировало античный опыт, нежели развивало его. Правда, арабский мыслитель Ибналь-Хайсам, или Альхазен (согласно латинскому варианту его имени), выдвинул во многом оригинальную теорию зрения. Вслед за античными учеными он полагал, что «видимый пучок» лучей распространяется от предмета к глазу, хрусталик которого является чувствующим органом. Однако трактовал он этот процесс следующим образом: изображение предмета передается на расстояние физическими лучами, посланными из каждой точки предмета к соответствующей точке передней чувствительной поверхности хрусталика, который и создает восприятие целого предмета через отдельные восприятия каждой его точки. Альхазен также дал описание эксперимента с темной камерой. Если поместить несколько свечей снаружи у отверстия, ведущего в камеру, где против отверстия помещен непрозрачный экран или предмет, то на этом экране или предмете появятся изображения каждой из этих свечей. Фактически это означало изобретение камеры-обскуры *, и остается лишь сожалеть, что арабский ученый не смог усмотреть в ней модель образования изображения в глазу .
В 13 столетии и в Европе появились первые значительные исследования в области оптики. Прежде всею это работы Роджера Бэкона и Вителло. В том же веке в Италии были изобретены очки. Однако ученые-оптики не только не приветствовали замечательное изобретение, но считали его источником возможных заблуждений. «Основная цель зрения знать правду, линзы для очков дают возможность видеть предметы большими или меньшими, чем они есть в действительности; через линзы можно увидеть предметы ближе или дальше, иной раз, кроме того, перевернутыми, деформированными * и ошибочными, следовательно, они не дают возможности видеть действительность. Поэтому, если вы не хотите быть введенными в заблуждение, не пользуйтесь линзами».
Этот пример очень хорошо демонстрирует расхождение теории и эксперимента в эпоху средневековья (что характерно не только для изучения оптических проблем).Здесь «слепота» эпохи обнаруживается в буквальном смысле слова. И именно так характеризует современный исследователь сам тип средневековой культуры: «Осмелимся назвать средневекового человека слепым...» .
Разумеется, неверно представлять Дело так, будто бы человек «вдруг прозрел» на рубеже средневековья и Возрождения. Границы между эпохами вообще достаточно условны, уточнение этих границ составляет предмет непрекращающихся научных дискуссий, а резкие противопоставления возможны лишь на высоком уровне исторических абстракций, при типологическом рассмотрении культуры, когда выясняются принципиальные установки,характеризующие именно тип данного культурно-исторического единства. Констатация «слепоты» средневековья, конечно же, не имеет ничего общего с отжившей его оценкой как, якобы, эпохи мрака, после которой воссиял свет Возрождения; подобная оценка средневековой культуры просто не выдерживает критики.

Джотто. Поцелуй Иуды Фрагмент

Леонардо да Винчи. Автопортрет Ок. 1512. Турин, Библиотека
«Слепота» средневековья - характеристика типологическая, уместная постольку, поскольку отношение к зрению в последующую эпоху приобрело совершенно иное значение и по-новому организовало ценности культуры. Недоверие к «телесному оку» уступило место настоящему культу Глаза.
Господин человеческх чувств
В знаменитой «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирапдола вложил в уста самого бога такие слова: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы п место, и лицо, иобязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свойобраз по свое му решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире» .
Раньше одна только мысль о возможности выбора «места, лица и обязанности» по своему желанию показалась бы невыносимо греховной. Здесь же сам всевышний говорит, как ренессансный гуманист. И человек Возрождения охотно пользуется санкционированной свыше свободой выбора, становясь зрителем всей вселенной. Картина мира обретает действительно зримые черты.
Великий итальянский гуманист Леон Баттиста Альберти своей эмблемой избрал крылатый глаз; эта эмблема могла бы служить символом рснессансного мироотношения в целом. «Нет ничего более могущественного,- говорит Альберти, - ничего более быстрого, ничего более достойного, чем глаз. Что еще сказать? Глаз таков, что среди членов тела он первый, главный, он царь и как бы бог» [цит. по: 47, с. 157].
Лука Пачоли, опираясь на авторитет Аристотеля, писал: «...Из наших чувств, согласно мудрецам, зрение наиболее благородное. Вот почему не без основания даже простые люди называют глаз первой дверью, благодаря которойум постигает и вкушает вещи» | цит. по: 47, с. 157].
По самые восторженные гимны глазу сложил Леонардо да Винчи.
«Здесь фигуры, здесь цвета, здесь все образы частей вселенной сведены в точку. Какая точка столь чудесна?» .
«Кто мог бы думать, что столь тесное пространство способно вместить и себе образы всей вселенной? О, великое явление, чей ум в состоянии проникнуть такую сущность? Какой язык в состоянии изъяснить такие чудеса?» .
«Глаз, посредством которого красота вселенной отражается созерцающими, настолько превосходен, что тот. кто допустит его потерю, лишит себя представления обо всех творениях природы, вид которых удовлетворяет душу в человеческой темнице при помощи глаз, посредством которых душа представляет себе все различные предметы природы. Но кто потеряет их, тот оставляет душу в мрачной тюрьме, где теряется всякая надежда снова увидеть солнце, свет всего мира» .
«Глаз, называемый окном души, это - главный путь, которым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные творения природы, а ухо является вторым, и оно облагораживается рассказами о тех вещах, которые видел глаз. Если вы, историографы, или поэты, или иные математики, не видели глазами вещей, то плохо сможете сообщить о них в письменах. И если ты, поэт, изобразишь историю посредством живописи пером, то живописец посредством кисти сделает ее так, что она будет легче удовлетворять и будет менее скучна для понимания. Если ты назовешь живопись немой поэзией, то и живописец сможет сказать, что поэзия это слепая живопись. Теперь посмотри, кто более увечный урод: слепой или немой?» .
«Разве не видишь ты, что глаз обнимает красоту всего мира? Он является начальником астрологии *, он создает космографию *, он советует всем человеческим искусствам и исправляет их, движет человека в различные части мира; он является государем математических наук, его науки - достовернейшие; он измерил высоту и величину звезд, он нашел элементы и их места. Он сделал возможным предсказание будущего посредством бега звезд, он породил архитектуру и перспективу *, он породил божественную живопись. О превосходнейший, ты выше всех других вещей, созданных богом! Какими должны быть хвалы, чтобы они могли выразить твое благородство? Какие народы, какие языки могли бы полностью описать твою подлинную деятельность?(...)
Но какая нужда мне распространяться в столь высоких и долгих речах,- есть ли вообще что-нибудь, что не им делалось бы? Он движет людей с востока на запад, он изобрел мореходство и тем превосходит природу, что простые природные вещи конечны, а произведения, выполненные руками по приказу глаза,- бесконечны, как это доказывает живописец выдумкой бесконечных форм животных и трав, деревьев и местностей» .

Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа Конец 1470-х гг. Ленинград, Эрмитаж
Я привел лишь несколько фрагментов из записей Леонардо, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько возвысилось зрение над всеми человеческими чувствами в представлении величайшего гения Ренессанса *. Более того, согласно Леонардо, зрение как бы вбирает в себя способности всех чувств и, свидетельствуя о всей вселенной «от первого лица», руководит человеческим познанием. Окрыленный сознанием своего творческого могущества (вспомним эмблему Альберти), глаз готов превзойти саму природу и реализует эту готовность в живописи, которую Леонардо называет«божественной».
Рассуждения Леонардо складываются в целостную систему «философии глаза», а живопись служит вершиной «науки зрения», ее практическим выводом. Не приходится уже говорить о таких «частностях», как доказательство того, что очки помогают зрению (ср. мнение средневековых оптиков), или такая вот запись: «Сделай стекла для глаз, чтобы видеть луну большой» . (А ведь отсюда рукой подать до Галилея!)
Если глаз - чудесная точка, побравшая в себя все образы вселенной, то руководимая глазом живопись - не только отражение всего богатства и разнообразия природных предметов, но и порождение возможных миров. И далее, если такое творчество, по Леонардо, бесконечно, то живопись владеет всем видимым, воображаемым и мыслимым, она способна охватить все вообще - попросту говоря, она универсальна.
Как зрение в рассуждении Леонардо превосходит прочие способности восприятия, так живопись превосходит другие искусства. Об этом недвусмысленно свидетельствует так называемый «Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором» . Однако зрение возвышается не просто благодаря естественно данной способности смотреть, но благодаря «умению видеть». Из этого исходят все рассуждения леонардовской философии глаза. Живопись, как никакое другое искусство, направляет к «умению видеть» и, стало быть, к подлинному познанию.
Приводя доказательства универсализма живописи, Леонардо непосредственно затрагивает особенно важный для нас вопрос. «Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколениям вселенной, так как ее конечный результат есть предмет зрительной способности; путь через ухо к общему чувству не тот же самый, что путь через зрение. Поэтому она не нуждается, как письмена, в истолкователях различных языков, а непосредственно удовлетворяет человеческий род, не иначе чем предметы, произведенные природой. И не только человеческий род, но и других животных, как это было показано одной картиной, изображающей отца семейства: к ней ласкались маленькие дети, бывшие еще в пеленках, а также собака и кошка этого дома, так что было весьма удивительно смотреть на это зрелище» .
Пример, на который ссылается Леонардо, очень напоминает античные анекдоты о силе живописной иллюзии. Мастера Возрождения вообще охотно припоминали примеры такого рода. (Из этого, впрочем, не следует, что они ставили перед собой те же задачи, какими руководствовались их античные предшественники.)

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта Конец 1470-х - начало 1490-х гг. Ленинград, Эрмитаж
Итак, живопись - это «наука» и «универсальный язык», главенствующий над всеми прочими. Соотношение изображения и слова, установленное в средние века, кардинально изменяется. Если раньше истолкование живописи как «литературы неграмотных» было общераспространенным, то для Альберти и Леонардо столь же очевидно, что живопись выше литературы и одинаково привлекательна как для посвященных, так и для непосвященных. Плоды живописи наиболее поддаются сообщению: способная изобразить Все,она адресована Всем.
С этой точки зрения картина представляется целостным миром; по отношению к произведению ренессансной * живописи выражение «картина мира» должно употребляться не как фигура речи, но в буквальном смысле. По существу, Ренессанс и явился творцом картины как таковой, как автономного художественного организма, способного сохранять свою целостность независимо от перемещения в пространстве и времени.
Вот фрагмент комментария к творчеству Леонардо: «Впервые в истории живописи он сделал картину организмом. Это не просто окно в мир, не кусок открывшейся жизни, не нагромождение планов, фигур и предметов... Это - микрокосм, малый мир, подобный реальности мира большого. У него свое пространство, своя объемность, своя атмосфера, свои существа, живущие полной жизнью, но жизнью иного качества, чем скопированные, отраженные люди и предметы натуралистического искусства. Леонардо был первым создателем „картины" в том смысле, как ее позднее понимало классическое искусство Европы» . Единственное, с чем трудно согласиться в этой прекрасной характеристике сущности картины,- утверждение единоличного авторства Леонардо. По-моему, Леонардо лишь завершил процесс создания картины, осуществлявшийся коллективными усилиями мастеров Ренессанса.
Не менее показательно замечание другого современного исследователя творчества Леонардо: «На место теологии итальянское Возрождение поставило живопись...» .
Если зрение и живопись оказывались во главе теории и практики познания мира, они должны были стать предметом тщательного изучения и систематического обучения. Это и происходит в рассматриваемую эпоху: проблемам зрения и изображения посвящены бесчисленные опыты и трактаты, не говоря уже о собственно живописном творчестве.
В объяснении природы зрения и функций глаза значительную роль сыграли, опять-таки исследовании Леонардо да Винчи, который продвинулся на этом пути значительно дальше Альхазена, Вителло и других своих предшественников. Недостаток информации повлек за собой ряд ошибок и не позволил Леонардо построить точную функциональную модель глаза, и все же именно ему принадлежит идея введения инженерного подхода к проблемам зрения. Леонардо сравнил глаз с камерой-обскурой *. «Как предметы посылают свои изображения или подобия, пересекающиеся в глазу в водянистой влаге, станет ясно, когда сквозь малое круглое отверстие изображении освещенных предметов проникнут и темное помещение; тогда ты уловишь эти изображения на белую бумагу, расположенную внутри указанного помещения неподалеку от этого отверстия, и увидишь все вышеназванные предметы на этой бумаге с их собственными очертаниями и красками, но будут они меньших размеров и перевернутыми по причине упомянутого пересечения. Такие изображения, если будут исходить от места, освещенного солнцем, окажутся словно нарисованными на этой бумаге, которая должна быть тончайшей и рассматриваться с обратной стороны, а названное отверстие должно быть сделано в маленькой. очень тонкой железной пластинке» .
Аналогичным образом рассуждал позднее Джамбаттиста делла Порта; он также сравнивал глаз с темной камерой, и именно ему обязан этой идеей Иоганн Кеплер, который впервые нашел точное оптико-геометрическое решение проблемы. Если Леонардо не различал науку и искусство, как их принято различать сейчас, то позиция Кеплера была именно позицией ученого. В дальнейшем точки зрения науки и искусства в значительной степени обособляются, однако не будем забывать о том, сколь многим они обязаны друг другу.
«Возрождение» зрителя
Двигаясь по течению истории очень большими шагами, мы дошли до той эпохи, когда рождается (пли возрождается)картина - в том ее виде, какой культивировало ее искусство нового времени и какой она известна нам теперь. В то же время формируется и тип воспринимающего, которому картина предназначена. Картина и ее зритель - исторические близнецы, увидевшие свет одновременно. Это и попятно: картина появляется как ответ на известную общественную потребность и предвосхищает в себе акт восприятия, которым и завершается произведение искусства. Поэтому живопись производит не только картину для зрителя, но и зрителя для картины.
«Предмет искусства - то же самое происходит со всяким другим продуктом,- писал К. Маркс,- создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета» . И далее: «Производство создает материал как внешний предмет для потребления; потребление создает потребность как внутренний предмет, как цель для производства. Вез производства нет потребления, без потребления нет производства. (...) Каждое из них есть не только непосредственно другое и не только опосредствует другое, но каждое из них, совершаясь, создает другое, создает себя как другое. Только потребление и завершает акт производства, придавая продукту законченность его как продукта, поглощая его, уничтожая его самостоятельно-вещную форму, повышая посредством потребности в повторении способность, развитую в первом акте производства, до степени мастерства; оно, следовательно, не только тот завершающий акт, благодаря которому продукт становится продуктом, но и тот, благодаря которому производитель становится производителем. С другой стороны, производство создает потребление, создавая определенный способ потребления и затем создавая влечение к потреблению, саму способность потребления как потребность» .
Исходя из этого можно было бы сказать, что картина дает форму определенной общественной потребности, а последняя сознает себя в данной форме и культивирует эту форму как собственное детище. Небывалый расцвет живописи в эпоху Возрождения в первом приближении можно объяснить именно живым родством потребности и формы ее реализации. Картина является зримым диалогом живописца и публики. «Проблема художника родилась в годы раннего Возрождения. В те же годы впервые осознается - и тем самым приобретает культурное и эстетическое бытие - проблема зрителя» . Художник считает себя должным нравиться зрителю, одинаково привлекать как образованных, так и необразованных людей. «Произведение живописи хочет нравиться толпе, так не презирай же приговора и суждения толпы» . Художнику отвечает ренессансный зритель: «...Кто из нас, видя красивое изображение, не задержится, чтобы посмотреть его, даже если он спешит в другое место?» [цит. по: 37, с. 226].
Теперь понятно, что картина явилась результатом совместного, общественного творчества, что в создании этой особой художественной формы изобразительности участвовали и живописцы и зрители. Однако мало сказать о картине как о внешней изобразительной форме, необходимо вскрыть то содержательное начало, которое объединяло эстетическую деятельность художника и зрителя. Можно было бы поставить вопрос так: к чему в человеке обращается картина? Какой человеческой потребности отвечает ее появление?
Здесь хотелось бы установить связь с понятием личности. Как известно, личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического развития человека. Тем более поздним порождением культуры является представление о личности (европейская культура в данном отношении - не исключение)9. И мне кажется, что есть основания связывать картинную форму - как весьма позднюю в истории изобразительного искусства - именно с формированиемличностного отношения к миру, с образованием сферы межличностного общения.
«С разрушением средневековых форм жизни перед личностью падали одна за другой преграды экономические, социальные, политические; открылись бесконечные дали географические со всеми возможностями нового света, перестраивалась по новым законам вселенная, создавалась новая мораль, философия, ре лигия. И в центре всего - впервые радостно сознавшее и утвердившее себя человеческое,я". Естественно, что все искусство Возрождения - радостная песнь торжествующей над преодоленным миром человеческой личности. Естественно, что в это время появляется станковая картина - как знак личности в ее самоутверждении» .
Не потому ли картина на протяжении нескольких веков рассматри валаськакосновная формаизобра зительногоискусства - непотому ли, чтоэтаформа наиболее полно воплощала личностное в человеке и для человека?
Живой потребности соответствует особая среда, формируемая одновременно с двух сторон - искусством и публикой. Этой среде необходимо уделить особое внимание.
О значении слова «экспозиция»
Происхождение картины правомерно рассматривать как процесс вычленения изображения из ансамбля, обладавшего универсальным характером, будь то ансамбль храма или священной книги. Я уже от части коснулся этого вопроса, и мне предстоит рассматривать его еще более подробно в следующей главе. Здесь же достаточно указать на принципиальное значение отношения «интерьер - экстерьер» (внутреннее - внешнее); именно интерьер был колыбелью картины, и ее появление отвечало потребности в «камерных» формах изобразительности. Эта потребность тесно связана с религиозно-этическими преобразованиями, с переосмыслением места человека в мире, с формированием личностного самосознания. Чрезвычайно важно, что картина обрела известную самостоятельность в эпоху Возрождения, во всех странах (и не только на Западе) связанную с переходом от деревенской культуры к городской культуре.
В этом смысле архитектура является «родной матерью» живописи, той сферой, в которой живопись естественно и органично развертывала свое содержание. Выделившись из архитектурного ансамбля, живопись, как полагают одни, утратила вместе с тем свою естественную коммуникативную * среду. Именно так характеризовал Поль Валери современное положение изобразительных искусств: «Живопись и Скульптура (...) это брошенные дети. У них умерла мать - мать их, Архитектура. Пока она жила, она указывала им место, назначение, пределы» . Согласно другой точке зрения, живопись компенсировала эту утрату с помощью специфических средств, функция которых аналогична функции архитектурной среды. Иными словами, выделяясь из ансамбля, картина сама становится ансамблем, а вместе с тем - ядром нового ритуала. Утверждение суверенитета Живописи вызывает к жизни целое сообщество деятелей, которые выступают посредниками между картиной и широкой публикой. Возникают разнообразные формы общественного служения искусству и обслуживания искусства; организуется новая иерархия * служителей - покровителей, знатоков, коллекционеров, любителей, комментаторов. и т. д. и т. п. Во главе этой иерархии стоит мастер, из ремесленника превратившийся в «героя и вождя своего народа» . Божеству живописи воздвигают новые храмы - художественные галереи и музеи, и архитектура становится посредником собственного детища.
Я уже не раз употребил слово «посредник», и вполне намеренно, ибо как раз в посредничестве и состоит суть того, что принято называть экспозицией картины.
Слово «экспозиция» входит в терминологию различных искусств; оно употребимо и в литературе, и в музыке, и в изобразительных искусствах - всякий раз в специальном значении. В отношении изобразительных искусств оно обычно употребляется как синоним слова «выставка». Однако этого явно недостаточно, чтобы понять действительную спецификуживописной экспозиции.
Здесь может быть полезна следующая аналогия. Искусство музыки и поэзии предполагает исполнителя, посредника между автором и слушателем. Сейчас очевидно, что это посредничество составляет особую область искусства. Партитура и записанный текст стихотворения является для исполнителей не только неким «содержанием», но также «формулой действия». При этом исключительно важно, что музыка и поэзия выработали специфические способы указания,как следует играть или читать произведение. Важно также, что автор и исполнитель пользуются одним и тем же инструментарием.. Иначе обстоит дело в живописи. Это искусство не знает «исполнительства» как такового. Функцию исполнителя берет на себяэкспозиция (от лат. expositio).
Любопытно заметить, что латинский глагол (exponeve). с которым связано это слово, означал не только «представлять», «выставлять (напоказ)», «обнародовать», «опубликовывать», «излагать», «объяснять», «описывать»; в поле его значений входили и такие, как «высаживать», «выкидывать вон», «отбрасывать прочь». «выбрасывать за борт», «оставлять незащищенным», «подкидывать (младенца)» и т. п. (В духе этих последних Валери и оценивал судьбу картины в современном музее.) Отсюда же происходят родственные слова, обозначающие «внешний вид» (exposita). «общие места», «банальности» (exposita как риторический термин), «истолкователя», «комментатора» (expositor): родственное прилагательное expositus переводится в зависимости от контекста как «открытый». «доступный», «общительный», «дружелюбный» , «понятный» , «ясный», «обыденный», «пошлый».
Существование картины (как и произведения искусства вообще) двойственно. С одной стороны, это некая «внутренняя» жизнь, заключающая в себе всю полноту творческого замысла, всю глубину художественного смысла. В этой связи говорят о принципиальной неисчерпаемости произведения искусства, о его «тайне». Самые известные произведения веками хранят свои тайны. С другой стороны,произведениеведет,так сказать, «светский образ жизни, являясь зрителю различных времен, пространств, коллективов и т. п. Если художник стремится дать идее зримо-материальное воплощение, то зритель «развоплощает» произведение, актуализируя в нем то, что внятно его сознанию, вкусу, настроению, интересам. Здесь возможны различные степени сближения и расхождения - от углубленного истолкования до сведения к пошлости. Эти различия и демонстрирует приведенная выше группа слов.
Таким образом, отношение «внутреннее внешнее» сохраняет актуальность и тогда, когда живопись достигла известной самостоятельности, а проблема экспозиции состоит в том, чтобы это отношение не приобрело характер застывшего противоречия, но перешло в живой диалог. Поэтому экспозиция и есть по сути своей посредничество, учитывающее взаимные интересы сторон.
Проблема экспозиции становится профессионально осознанной проблемой именно тогда, когда искусство определяется как особый способ духовного производства, предполагающий особый способ потребления.
В процессе самоопределения живопись вырабатывает собственные принципы предъявления своих произведений. Отдавая должное архитектуре, важно учесть факт сложения экспозиционных приемов внутри самого изображения, явление «внутренней экспозиции» (каким бы парадоксом ни казалось подобное выражение). Существенной предпосылкой этого явления послужило использование центральной перспективы *. открытой (или вновь открытой, если учесть опыт античной сценографии) ирационально усовершенствованной ренессансом. Перспектива позволила живописи охватить видимый мир как единое пространственное 1 целое (хотя это было достигнуто ценой сильного абстрагирования * живого зрительного опыта). Ниже я еще не раз коснусь проблематики перспективных систем в живописи; сейчас важно подчеркнуть, что включение перспективного принципа в систему ренессансной композиции означало одновременно п включение в нее зрителя как необходимого структурного звена. «Зритель, в сущности, уже заранее запрограммирован картиной кватроченто *. отсюда - попеки точки зрения, горизонта, ракурса, рассчитанные на то. чтобы возможно точнее фиксировать позицию зрителя по отношению к изображению. В картине кватроченто задается некоторая норма поведения зрителя перед картиной. норма, которая настойчиво диктуется, почти навязывается зрителю художником. Искусство кватроченто активно воспитывает, формирует для себя зрителя, зрителя нового типа, который сам как бы является продуктом творчества художника. Однако этот зритель в значительной степени - воображаемый, идеальный. В конечном счете зритель, которого конструирует искусство ХV века, в такой же мере модель нового зрителя, в какой сама картина кватроченто является моделью нового мировидения...» \37, с. 216].
Таким образом, в самом строении новорожденной картины заключен красноречивый призыв: «Смотрите!» «Смотрите! Но куда? Смотрите вперед, на то, что находится перед вами. Действие, которое в средневековом театре и в средневековой живописи развивалось наверху, в небесах ИЛИ внизу, в преисподпей, было перенесено в средний Ярус, на уровень глаз зрителя. Смотрите не на то, что над вами, и не на то, что под вами, а на то, что перед вами!» .
Живопись Возрождения не ограничивается этим призывом к созерцанию, она стремится изобразить самого зрителя, ввести его в сюжетно-композиционное действие. «Смотрите на самих себя, узнавайте себя в ином, театрально преображенном обличье. В картинах Возрождения, в традиционных персонажах античной пли средневековой легенды часто проступали черты известных зрителям лиц...» . К этому следует добавить факты введения в картину автопортрета живописца прием, широко применявшийся в живописи со времен Возрождения.
Наконец, в, картину сознательно вводится герой-посредник, принадлежащий как бы одновременно миру изображения и миру зрителя - герой, «балансирующий» на грани двойного бытия картины. Как правило, его функция (посредника, предьявителя, экспозитора) выражается четко выделенной пространственной позицией (например, ближним планом или помещением у рамы), жестом обращения или указания, характерным поворотом лица или фигуры и тому подобными способами. Наибольшее разнообразие таких способов дает уже не ренессансная живопись, а живопись эпохи барокко*. Введение героя-посредника может быть понято и как способ предъявления, обнародования картины, и как своего рода образец ее восприятия: различные художественные системы расставляют здесь акценты по-разному. Иначе говоря, такой герой демонстрирует определенный стиль поведения в общении с произведением искусства. Так из картины рождается ее предъявитель, экспозитор, а вместе с ним - искусство экспозиции, искусство организации коммуникативной среды изображения, где зрителю по достоинству предоставлено право и возможность стать «исполнителем».

П. Веронезе. Пир в доме Левия 1573. Венеция, галерея Академии
Художник и публика: конфликтная ситуация
Живописец и публика вправе рассчитывать на взаимопонимание. Во всяком случае, история живописи недвусмысленно свидетельствует о взаимном стремлении к согласию. Однако ситуация, представленная выше, является обобщенно-идеальной, между тем как в живой исторической практике общение художника и публики сплошь и рядом осложнялось различными обстоятельствами, нередко становясь конфликтным. История искусства изобилует примерами такого рода.
Остановлюсь на некоторых.
18 июля 1573 года живописец Паоло Веронезе был вызван на заседание трибунала венецианской инквизиции, чтобы дать объяснения относительно одной из его картин. Мы знаем об этом благодаря сохранившемуся протоколу заседания, фрагменты которого приводятся ниже.
«...Сколько людей вы изобразили и что каждый из них делает?
Прежде всего - хозяина постоялого двора, Симона; затем, ниже него, решительного оруженосца, который, как я предполагал, пришел туда ради собственного удовольствия поглядеть, как обстоят дела с едою.
Там много еще и других фигур, но их я теперь уже не припоминаю, так как прошло много времени с тех пор, как я написал эту картину. (...)
В „вечере", сделанной вами для [монастыря] Санти Джованни э Паолю, что обозначает фигура того, у кого кровь идет из носа?
Это - слуга, у которого случайно пошла носом кровь.
Что обозначают эти люди, вооруженные и одетые, как немцы, с алебардою в руке?
Об этом нужно сказать несколько слов.
Говорите.
Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие, и я изобразил этих людей с алебардами - как один из них пьет, а другой ест у нижних ступеней лестницы, чтобы оправдать их присутствие в качестве слуг, так как мне казалось подобающим и возможным, что хозяин богатого и великолепного, как мне говорили, дома должен был бы иметь подобных слуг.
А для чего изобразили вы на этой картине того, кто одет как шут, с попугаем на кулаке?
Он там в виде украшения, так принято это делать.(...)
Сколько, по вашему мнению, лиц действительно было на этой вечере?
Я думаю, что там были только Христос и его апостолы; но поскольку у меня на картине остается некоторое пространство, я украшаю его вымышленными фигурами.
Кто-нибудь вам заказывал писать немцев, шутов и другие подобные фигуры на этой картине?
Нет, но мне было заказано украсить ее так, как я сочту подходящим; а она велика и может вместить много фигур.
Разве те украшения, которые вы, живописец, имеете обыкновение добавлять на картинах, не должны подходить и иметь прямое отношение к сюжету и главным фигурам, или же они всецело предоставлены вашему воображению на полное его усмотрение, без какого бы то ни было благоразумия и рассудительности?
Я пишу картины со всеми теми соображениями, которые свойственны моему уму, и сообразно тому, как он их понимает» .
Несмотря на заведомую неприязнь к лицам, учинившим этот допрос (ведь речь идет об инквизиции!), следует признать, что их претензии к художнику не были беспочвенными. Конфликт с заказчиком произошел отчасти по вине самого Веронезе, с артистической непосредственностью смешавшего сюжеты «Тайной вечери» и «Пира у Симона Фарисея». Более того, принужденный к исправлению картины, живописец действовал весьма своеобразно: ничего не изменив в композиции, он только сделал надпись, означавшую, что картина изображает... «Пир в доме Левия» (1573; Венеция, галерея Академии). Так из смешения двух сюжетов возник третий. Это более чем свободное обращение со священным сюжетом, как и чисто формальное разрешение конфликта, со всей очевидностью демонстрирует отличие критериев, которыми руководствовался Веронезе, от критериев его заказчика. Настоятель монастыря, подавший жалобу в инквизиционный трибунал, заботился о зрителе не меньше живописца, однако для него принципиальным значением обладало точное соответствие изображения евангельскому тексту. Для художника же принципиально важным было зрелище как таковое, богатство живописно-пластической темы пира, столь привлекательной для творческого воображения и искусной руки. Иными словами, живописец и заказчик ориентировались на различные системы ценностей и с этих позиций вели спор за будущего зрителя. Если заказчик апеллировал к нормам религиозного сознания, то живописен, взывал к художественно-эстетическому чувству, к свободе воображения, о чем лучше всего свидетельствует ссылка на «вольности, какими пользуются поэты и сумасшедшие». Во времена Веронезе позиции самих зрителей в этом конфликте наверняка оказались бы различными. Можно ли сказать, что спор этот теперь потерял всякую актуальность и что истина, безусловно, оказалась на стороне живописца? Конечно, картина является лучшим аргументом, однако сам сюжет ее создания и переименования вовсе не бесполезен для того, кто хочет ее понять.

Рембрандт. Ночной дозор 1642. Амстердам, Рейксмузеум
В 1642 году Рембрандт завершил работу над групповым портретом по заказу корпорации амстердамских стрелков.
Укоренившейся традиции оставлять преемникам портретные изображения членов гильдии соответствовала традиционная композиция группового портрета с четко выраженной иерархией - порядком размещения лиц - согласно общественной роли каждого. Иными словами, существовала общепринятая схема такого портрета, на которую были ориентированы ожидания заказчиков. Если живописец и имел право на известную свободу, то она всё же не должна была разрушать границы самого жанра. Так Франс Хале вводил в композиции подобных портретов естественную сюжетную мотивировку, изображая собрания и банкеты стрелков. Это позволяло ему не нарушая предписанных условий вносить в картину дух живого общения и солидарности. и высшей степени созвучный гражданскому чувству современного голландского зрителя. Композиция и экспозиции вступали здесь в самую тесную, дружескую связь.
То, что сделал Рембрандт, оказалось совершенно непредсказуемым и слишком превосходящим все ожидания. Вдвое увеличив число изображаемых. Рембрандт смешал их ряды в энергичном действии, производящем впечатление внезапного выступления стрелковой роты, столь же динамичный повышенно-контрастный характер мастер придал освещению, как бы выхватывая из полутьмы отдельные фрагменты сцены и не слишком считаясь с общественной иерархией портретируемых. Да и можно ли говорить здесь о портрете? Если учесть, что каждый из заказчиков, согласно контракту, платил именно за свой портрет (около ста гульденов, больше или меньше в зависимости от своего места в изображении), то можно представить себе их негодование, когда число «оплаченных мест» оказалось увеличенным вдвое (за их счет), а сами заказчики очутились в толпе «незваных гостей», приведенных сюда фантазией живописца. Хотя главные герои - капитан Франс Баннинг Кок и лейтенант Рейтенбург - ясно опознаваемы, они воспринимаются не как центральные персонажи группового портрета, но как герои драматизированного исторического сюжета. О какой-либо координации * портретируемых лиц говорить не приходится ".
Это не столько групповой портрет, сколько театрализованное массовое действие, призванное зримо и символически выразить дух гражданских идеалов, уже нашедших воплощение в героической истории республиканской Голландии. Свобода, с которой Рембрандт интерпретировал * тему, родственна этому духу, но и заплатить за нее мастеру пришлось не менее дорого.
В картине, прославленной под именем «Ночного дозора» (1642: Амстердам. Рейксмузеум) Рембрандт превысил возможный предел сложности замысла, равно как и масштабы социального заказа.
Несмотря на то, что заказ исходил от корпорации, от целого сообщества граждан, интересы заказчиков носили слишком частный характер и оказались несоизмеримыми с тем высоким общественным пафосом, до которого поднялась мощная творческая фантазия Рембрандта. Проще говоря, заказчики не были готовы увидеть себя такими, какими представил их живописец. Это и повлекло за собой острый конфликт, тяжбу гильдии с мастером, упрочение за ним славы странного художника, осложнение его общественного положения, переросшее затем в своего рода «отлучение» Живописца от бюргерского общества.

Рембрандт. Ночной дозор Фрагмент
Ни художник, ни заказчики не желали подобного конфликта. Рембрандт был вправе осуждать сограждан за ограниченность самосознания, а они имели основания считать условия заказа несоблюдёнными. В далекой исторической перспективе выяснилось, что гильдия, считавшая себя обманутой, стала на деле жертвой самообмана, ибо если история и сохранила имена заказчиков, то лишь благодаря тому, что они оказались причастными к созданию «Ночного дозора».
В конце ноября 1647 года из Рима в Париж было отправлено письмо, частный характер которого не помешал ему стать известным документом в истории эстетической мысли и важным пунктом теории изобразительного искусства. Автором письма был знаменитый французский живописец Никола Пуссен, адресатом - Поль Шантелу, видный чиновник при дворе французского короля, постоянный заказчик Пуссена. Поводом для необычно длинного послания (Пуссен имел обыкновение очень сжато выражать свои мысли) послужило капризное письмо Шантелу, полученное художником не задолгодо этого. Шантелу, ревность которого была возбуждена картиной, написанной Пуссеном для другого заказчика (лионского банкира Пуантеля, близкого друга художника и коллекционера его картин), в своем письме упрекал Пуссена, что тот почитает и любит его меньше, чем других. Доказательство Шантелу видел в том, что манера картин, выполненных Пуссеном для него, Шантелу, совсем иная, нежели та, которую художник избрал при выполнении иных заказов (в частности, Пуантеля). Художник поспешил успокоить капризного патропа * и, хотя раздражение его было велико, отнесся к делу со свойственной ему серьезностью. Приведу фрагменты ответного письма.
«...Если картина „Моисей, найденный в водах Нила", которой владеет господин Пуантель, Нам понравилась, разве это доказательство того, что я делал ее с большей любовью, чем Ваши картины? Разве Вы не видите, что лишь природа самого сюжета вызвала этот эффект и Ваше расположение и что вещи, которые я трактую для Вас, должны быть изображены в другой манере? В этом и заключается все искусство живописи. Простите мне мою вольность, если я скажу, что Вы показали себя поспешным в суждениях, которые Вы сделали о моих работах. Правильность суждения - вещь очень трудная, если в этом искусстве не обладаешь большой теорией и практикой, соединенными вместе. Судьями должны быть не наши вкусы только, но и разум» .
Далее Пуссен сжато излагает античное учение о модусах *, или музыкальных ладах (гармоника), используя его для обоснования собственных творческих принципов. Согласно Пуссену, понятие «модуса» означает форму упорядочения изобразительных средств в согласии с характером (идеей) сюжета и тем воздействием, какое он должен произвести на зрителя. Соответственно названы модусы: «строгие», «неистовые», «печальные», «нежные», «радостные». При желании читатель может самостоятельно удовлетворить свой интерес, обратившись к указанному первоисточнику.
«Хорошие поэты,- продолжает Пуссен,- прилагали большие старания и чудесное мастерство для того, чтобы приспособить слова к стихам и расположить стопы в соответствии с требованиями речи. Вергилий следовал этому во всей своей поэме, так как он для каждого из трех типов речи пользуется соответствующим звучанием стиха с таким мастерством, что кажется, будто при помощи звука слов он показывает перед Вашими глазами вещи, о которых он говорит; ибо там, где он говорит о любви, видно, что он искусно подобрал слова нежные, приятные для слуха и в высшей степени изящные; там же, где он воспевает боевые подвиги, или описывает морское сражение, или же приключения на море, он выбирает слова жесткие, резкие и неприятные, так что, когда их слушаешь или произносишь, они вызывают ужас. Если бы я написал для Вас картину в этой манере, Вы вообразили бы, что я Вас не люблю» .
Последнее замечание, проникнутое иронией,- очень точная реакция разума на вздорную ревность. Ведь по сути дела Шантелу считает живописную манеру выражением личного отношения художника к заказчику. Для Пуссена подобное истолкование немыслимо субъективно и граничит с невежеством. Индивидуальному капризу он противопоставляет объективные законы искусства, обоснованные разумом и опирающиеся на авторитет древних.
Сугубо частный характер конфликта не мешает и здесь, как в предыдущих случаях, усмотреть принципиальное различие позиций художника и зрителя.
Итак, перед нами три конфликта. С одной стороны - художник, с другой-общественная организация с высшими идеологическими полномочиями, относительно автономное «гражданское (если не сказать буржуазное) сообщество и, наконец, частное лицо. В чем же состоит принцип противоречия их позиций?
На мой взгляд, было бы неверным сразу переводить вопрос в плоскость известного противопоставления общества и творческой индивидуальности, как это нередко делается. Разве позиция монастырского начальства и инквизиционного трибунала, группы бюргеров и королевского чиновника представляет позицию всего общества? И разве художник не принадлежит обществу, не выявляет в своем творчестве определенные общественные позиции? Нет, здесь очевидное заблуждение. В чем же дело?
Мы гораздо ближе подойдем к существу вопроса, если будем исходить из того, что обе стороны так или иначе представляют интересы публики. Вот здесь и проходит граница, на которой возникает конфликт.
И для монастырского начальства, и для инквизиции, и для членов бюргерской корпорации, и для придворного чиновника характерен по преимуществу утилитарный (прикладной) принцип восприятия и оценки картины - с точки зрения служения ее некоторой «пользе». Воспитывать зрителя в духе воззрений католической церкви, запечатлеть облик сограждан для потомства или услаждать глаз «приятной» манерой - такова польза, которую ждут от живописи. В первом случае горизонт общественных ожиданий достаточно широк, в последнем - очень узок, однако принцип остается одним и тем же. Притом каждый заказчик имеет сложившийся образ зрителя, который воплощает интересы текущего дня и неявно отождествляется с самим же заказчиком: «зритель был, есть и будет таков, как мы (как я)».
С точки зрения художника дело обстоит существенно иначе. (Разумеется, было сколько угодно живописцев, которые ничуть не затруднялись выполнением любых пожеланий, прихотей и капризов заказчика: речь сейчас не о них поскольку Веронезе. Рембрандт и Пуссен к числу таковых не принадлежали.) Во-первых его зритель не есть сложившийся, раз и навсегда сотворенный зритель, по образ творимого зрителя, ибо он возникает в самом процессе творчества. Этот образ, по существу, идеален, как идеальна по своему содержанию эстетическая творческая деятельность 4. Однако у этого идеального образа поистине необозримые перспективы реального воплощения, поскольку он открыт в будущее, и каждое новое поколение зрителей, вдохновившись замыслом живописна, может воплотить его в себе.
Из этого следует, во-вторых, что восприятие картины (и художественного произведения вообще) само по себе есть творческая деятельность и что сам зритель есть продукт такой деятельности. Иначе говоря, чтобы воспринять художественное произведение соответственно его природе, необходимо произнести определенную работу, приложить творческие усилия. Эстетический труд зрителя связан с открытием еще неосознанных потребностей и возможностей, С расширением ценностного горизонта. Здесь снова подтверждается мысль Маркса о том, что искусство творит зрителя.
Подводя итог рассмотренным примерам, можно было бы сказать, что у художника образ зрителя наделен несравненно более богатыми человеческими возможностями, более далекой исторической перспективой, нежели у заказчика 15. Если этот сотворенный образ не находит отклика в ближайшем историческом окружении, если художник не получает материального вознаграждения или признания со стороны современников, то существо дела от этого не меняется. И если история решила рассмотренные выше конфликты в пользу живописцев, то прежде всего потому, что за них говорит сама творческая деятельность, опредмеченная в картинах и могущая быть воспроизведенной в эстетическом восприятии.
Искусствовед как посредник
Конфликтные ситуации, ситуации неприятия, непонимания и подобные им могут возникать и действительно возникают не только при непосредственном общении, по и па больших временных дистанциях между художником п зрителем. (О равнодушии речи нет, ибо бесчувственность вообще1 исключает эстетическую установку.) Если согласиться с тем. что история до известной степени объективна в отборе художественно-эстетических ценностей и сохраняет преимущественно достойное быть сохраненным, то причина подобных ситуаций непонимания коренится зачастую в недостаточной активности зрителя. Впрочем, считать это положение определяющим очень рискованно. Следует учитывать постоянно происходящую в историческом процессе переоценку художественно-эстетических ценностей и целый ряд сопутствующих обстоятельств, в силу которых общественные ориентации заметно смещаются. Более того, само искусство нередко выступает инициатором таких переоценок.
Указанные обстоятельства слишком важны для общественного сознания, чтобы остаться без внимания и особого контроля. Вместе с выделением искусства в относительно автономную сферу деятельности зарождается потребность в специальном его изучении - потребность, реализуемая в особой области гуманитарного знания, в искусствоведении.
Предыстория искусствоведении уходит в отдаленную древность (вспомним хотя бы цитированные сочинения античных авторов), однако история его как пауки восходит к сравнительно недавнему прошлому.
Хотя художник и искусствовед не раз соединялись в одном лице (ранний пример дает творчество Джорджо Вазари, автора широко известных «Жизнеописаний...») "", оба рода деятельности ни в коем случае не сводимы друг к другу. Вульгарное представление об искусствоведе как о неудавшемся художнике не имеет ничего общего с действительным положением вещей. По отношению к художнику искусствовед выступает в первую очередь как высокоорганизованный зритель, а зачастую и как свидетель творческого процесса. Степень причастности здесь может быть различной, но все же искусствовед остается гостем в мастерской художника - пусть даже самым желанным, но именно гостем. С другой стороны, по отношению к широкой публике искусствовед выступает как высокопрофессиональный эксперт, как носитель и хранитель художественно-эстетического опыта (cxpertus и значит «опытный»), что определяет возможность свободной ориентации в тех или иных системах ценностей. Более того, художественные открытия,нередко совершаемые бессознательно, благодаря искусствоведу становится достоянием сознания не только в специальном научном значении, но и в широком общественном смысле. Здесь речь уже должна идти о художественной критике.
Таким образом, если определить роль искусствоведа одновременно с двух сторон, в отношениях к художнику и к зрителю, то искусствовед выступает прежде всего посредником. или переводчиком.
Эту функцию искусствоведения нельзя недооценивать. Благодаря выполнению этой функции не только сохраняется художественно-эстетический фонд общества, по и осуществляется регуляция взаимоотношений художника п публики. Зритель, как правило, просто не знает или не осознает, сколь многим он обязан деятельности искусствоведа, далеко не всегда понимает это и художник.
Установление принадлежности произведения определенному времени, той или иной национальной школе, конкретному мастеру: выяснение условии и обстоятельств его создания, исторический комментарий; анализ художественно-эстетической структуры: перевод на язык современных понятий, реализация в той или иной экспозиционной форме - вот лишь схема того процесса. в результате которого произведение становится актуальным для зрителя.
Рассмотрим чуть пристальнее одно лишь звено этого процесса, обратившись к примеру из книги Ш. Фридлендера «Знаток искусства».
«Я изучаю алтарную икону и усматриваю, что она писана па дубе. Значит она нидерландского пли нижнегермаиского происхождения. И нахожу на ней изображения жертвователей и герб. История костюма и геральдика * дают возможность прийти к более точной локализации и датировке. Путем строгих умозаключений я устанавливаю: Брюгге, около 1480 года. Изображенного жертвователя легко узнать по гербу. Малоизвестная легенда, о которой повествует картина, приводит меня к одной церкви в Брюгге, посвященной святому этой легенды. Я справляюсь в церковных актах и нахожу, что в 1480 г. гражданин города Брюгге, чье имя я узнал по гербу, пожертвовал алтарь и образ к нему заказал Гансу Мемлингу.
Итак, икона писана Мемлингом» .
Огромная часть работы искусствоведа остается скрытой от зрителя, но именно ею во многом определяется возможность и реальность художественно-эстетического общения. Точно так же скрытой от непосредственного осознания является работа переводчика литературного произведения, за которым читатель идет, не ведая, так сказать, своего проводника.
Выше речь шла об «идеальном» зрителе картины; может быть, из всего зрительского коллектива искусствовед ближе всех подходит к воплощению в себе этого образа. «Великое искусство, пишет академик Д. С. Лихачев, требует великих читателей, великих слушателей, великих зрителей. Но можно ли требовать от всех этой „великости"?» И тут же отвечает на собственный вопрос: «Великие читатели, слушатели, зрители - есть. Это критики - литературоведы, музыковеды, искусствоведы» .
Предварительные итоги
Как человечество в целом, так и отдельные его категории суть исторические образования. Это в полной мере относится и к интересующей нас категории - зрителю. В различные исторические эпохи человек обнаруживает различную зрительную активность и по-разному реализует присущую ему способность видеть. Изобразительность и в особенности изобразительное искусство оказываются исторически конкретными формами воплощения этой способности и хранения добытой информации. При этом, однако, человек видит и изображает не только и не столько то, что непосредственно доступно взору, но реализует в зримой форме определенные комплексы представлений о мире и о себе самом. «В каждой новой форме зрения кристаллизуется новое миропонимание» . Поэтому произведения искусства являются не просто наглядными историческими свидетельствами зрения, но продуктами исторического сознания. По выражению современного ученого, «мы не только верим тому, что видим, но до некоторой степени и видим то, во что верим» . Если это справедливо по отношению к обычному зрению, то тем более справедливо это в отношении восприятия картин и вообще художественных произведений, где степень доверия к зримому очень высока - несмотря на то, что оно может противоречить обыденному чувственному опыту. Отсюда следует, что сами формы зрительной (и вообще перцептивной *) активности, включая искусство, являются общественными по преимуществу. Если искусство способно восхищать, то во многом благодаря тому, что общественный опыт заключает в себе способность к предвосхищению художественно-эстетических явлений.
Искусство выступает как бы хранителем зрительно-изобразительного опыта человечества и в зависимости от потребностей общества может использовать этот опыт в том или ином объеме. Передаваемый от поколения к поколению, этот опыт приобретает характер общественной ценности и преобразуется в ценностное сознание. История искусства и представляет собой историю ценностного сознания, где прошлое не отменяется настоящим, но, напротив, при всех возможных переоценках подлежит сохранению как неповторимый след в историческом развитии человечества. Подобное отношение к прошлому есть отношение человека как продукта и носителя культуры.
Если культурное сообщество уподобить индивидуальному организму, то искусства возьмут на себя функции систем восприятия; так, живопись выступает в роли зрительной системы. Но как человек видит не глазами, а при помощи глаз (вспомним еще раз афоризм Блейка: «Посредством глаза, а не глазом...»), так общество воспринимает мир посредством искусства. Художник предлагает модели восприятия мира, которые общество принимает или отвергает. В культурах канонического * типа (например, в средневековой) способы такого моделирования строго регламентированны, число моделей ограничено, а их действие носит принудительный характер. Это ведет к господству умозрения над восприятием: человек, принадлежащий такой культуре, видит то, во что верит и что знает. Разумеется, он способен зрительно зафиксировать гораздо больше того, что навязано ему культурным регламентом, но это остается за пределами осознания и как бы не включается в актуальную модель действительности. Отмена таких ограничений в иной культурной ситуации ведет к более динамичной и дифференцированной картине мира, где непосредственный вклад самого зрителя в акт восприятия значительно увеличивается.
Сравнительно с эволюцией строения глаза представления о его устройстве и работе (как донаучные, так и научные) сменялись очень быстро, а изменение картины мира происходило поистине стремительно. В согласии с ходом истории меняются общественно значимые модели восприятия и критерии их достоверности. Вот почему люди, располагающие как будто бы одной и той же системой сбора оптической информации, получают тем не менее различные сведения о событиях и явлениях действительности. По существу, зрение неотделимо от мира, стимулирующего зрительную деятельность.
Мир воспринимается различно также и потому, что в разные эпохи система восприятия выстраивается в различном порядке подчинения перцепций *. Как говорилось выше, доверие к зрению в разные эпохи было разным. Кроме того, порядок подчинения чувств (или иерархия подсистем восприятия) зависит от деятельности, в которую включен воспринимающий. Подобная зависимость станет очевидной, если мы сравним работу настройщика музыкальных инструментов, астронома и дегустатора.
Следовательно, порядок подчинения чувств связан со структурой общественной деятельности, а исторический «авторитет» той или иной формы восприятия - с общественной потребностью в определенного рода деятельности. Вот почему Ренессанс в искусстве совпал с «ренессансом зрения».
Появление художника-профессионала - позднейший продукт общественного разделения труда, и в этом смысле искусство - не слишком древнее произведение истории. Специфика художественной деятельности существенно влияет на организацию восприятия. Поэтому между обыденным и художественным восприятием существует большое различие.
Обыденный перцептивный опыт чрезвычайно разнообразен, и если он принципиально отличается от профессионального художественного опыта,то нестолько бедностью, сколько сравнительно слабой организованностью. Обыденный опыт не беден, он - хаотичен. Художник как профессиональный зритель обладает высокоорганизованной схемой («картой») восприятия,где целое безусловно господствует над частным. Эта схема является формой активного предвосхищения того, что будет воспринято. Можно сказать, что художник встречает поток чувственных данных во всеоружии и именно поэтому способен собрать более богатую жатву информации. По той же причине художник более чуток к неожиданным, непредсказуемым эффектам. Проще говоря, он обладает высокой готовностью к восприятию.
Кажется совершенно естественным, что история искусства - это история художников и их произведений. Лишь попутно речь заходит о зрителе, однако его образ, как правило, остается размытым, нечетким. Между тем история искусства в действительности является историей взаимодействия художника и зрителя, историей их встреч, соглашений, компромиссов. конфликтов. историей понимания и непонимания. Само же произведение предстает не только как результат, но и как поле этого взаимодействия.
Итак, зритель не является ниоткуда - у него есть своя история, своя традиция. Более того, его родословная отображена в самом искусстве. Зритель не только смотрит на картины - он смотрит из картин.
Говоря о зрителе, реальном и сотворенном, о его способностях и потребностях, о его среде и посредниках, автор ни на миг не забывал о том. что, собственно, и формирует саму историю зрителя, что служит постоянным стимулом и ориентиром в его историческом развитии. Это слово - деятельность - звучало постоянно, однако автор лишь указывал на него и декларировал его специфику, не углубляясь в обстоятельный анализ. Путь от зрителя к картине избран с таким расчетом,чтобы читатель вжился в роль зрителя, в его историю и традицию, а вместе с тем осознал его (свои) творческие способности, не закрывая глаза на возможные трудности их реализации.
Обратимся теперь к самой живописи, где зрению дано, так сказать, обрести дар речи, или, лучше сказать, дар красноречия.
«Некрасивые» это ещё мягко сказано. Младенцы на средневековых полотнах похожи на кошмарных крошечных мужичков с высоким уровнем холестерина.
Такие вот дети 1350 года:
Жутковатый младенец 1350 года в композиции «Мадонна из Вевержи» мастера Вышебродского алтаря. Фото: .
Или вот ещё один 1333 года:

Написанная в Италии «Мадонна с Младенцем», Паоло Венециано, 1333 год. Фото: Mondadori Portfolio/ .
Глядя на этих страшненьких человечков, мы задумываемся о том, как удалось перейти от уродливых средневековых образов детей к ангелоподобным младенцам эпохи Возрождения и современности. Ниже два изображения, которые позволяют убедиться, насколько изменились представления о детском лице.

Фото: .

Фото: Filippino Lippi/ .
Почему же в картинах было так много уродливых младенцев? Чтобы разобраться в причинах, нужно обратиться к истории искусства, средневековой культуре и даже к нашим современным представлениям о детях.
Может, средневековые художники просто плохо рисовали?

Эта картина 15-го века кисти венецианского художника Якопо Беллини, но младенец изображён в средневековом стиле. Фото: .
Детей изображали некрасивыми умышленно. Границу между Средневековьем и Ренессансом удобно использовать при рассмотрении перехода от «уродливых» детей к значительно более милым. Сравнение разных эпох, как правило, выявляет разницу в ценностях.
«Когда мы думаем о детях в принципиально ином свете, это отражается в картинах, – говорит Аверетт. – Таков был выбор стиля. Мы могли бы посмотреть на средневековое искусство и сказать, что эти люди выглядят неправильно. Но если задача в том, чтобы картина выглядела как у Пикассо, а вы создаёте реалистичное изображение, то и вам сказали бы, что вы сделали неправильно. Хотя с Ренессансом и наступили художественные инновации, но не в них причина того, что младенцы похорошели ».
Примечание: Принято считать, что Ренессанс зародился в 14-м веке во Флоренции, а оттуда распространился по Европе. Однако, как и любое интеллектуальное движение, он характеризуется одновременно и слишком широко, и слишком узко: слишком широко в том плане, что создаётся впечатление, будто ренессансные ценности возникли мгновенно и повсеместно, а слишком узко в том, что ограничивает массовое движение одной зоной инноваций. В эпохе Возрождения были пробелы – легко можно было увидеть изображение некрасивого ребёнка в 1521 году, если художник был привержен этому стилю.
Мы можем отследить две причины, по которым в Средние века младенцы в картинах выглядели мужиковато:
- Большинство средневековых младенцев были изображениями Иисуса. Идея гомункулярного Иисуса (что Он появился на свет в подобии взрослого человека, а не ребёнка) повлияла на то, как изображали всех детей.
Средневековые портреты детей, как правило, создавались по заказу церкви. А это значит, что изображали либо Иисуса, либо ещё нескольких библейских младенцев. В Средние века представления об Иисусе сформировались под сильным влиянием гомункула , что буквально означает человечек . «Согласно этой идее, Иисус появился полностью сформировавшимся и не изменялся, – говорит Аверетт. – А если сопоставить это с византийской живописью, получаем стандартное изображение Иисуса. В некоторых картинах, похоже, у него признаки облысения по мужскому типу ».

Картина Барнаба да Модена (работал с 1361 по 1383 годы). Фото: DeAgostini/ .
Гомункулярный (взросло выглядящий) Иисус стал основой для рисования всех детей. Со временем люди просто стали думать, что именно так должны изображать младенцев.
- Средневековых художников меньше интересовал реализм
Такое нереалистичное изображение Иисуса отражает более широкий подход к средневековому искусству: художники в Средние века были меньше заинтересованы в реализме или идеализированных формах, чем их коллеги в эпоху Возрождения.
«Странность, которую мы видим в средневековом искусстве, проистекает из отсутствия интереса к натурализму и большей склонности к экспрессионистским традициям» , – говорит Аверетт.
В свою очередь, это привело к тому, что большинство людей в Средневековье изображали похожими. «Идея художественной свободы в рисовании людей так, как вам хочется, была бы нова. В искусстве соблюдались условности ».
Из-за приверженности этому стилю живописи младенцы выглядели как папы, потерявшие форму, по крайней мере, до эпохи Возрождения.
Как в эпоху Возрождения дети снова стали красивыми

Милое дитя в картине Рафаэля, 1506 год. Фото: Fine Art Images/Heritage Images/ .
Что же изменилось и привело к тому, что дети вновь стали красивыми?
- Нерелигиозное искусство процветало, и люди не хотели, чтобы их дети выглядели как жуткие человечки
«В Средние века мы видим меньше изображений среднего класса и простых людей », – говорит Аверетт.
С Возрождением это начало меняться, поскольку средний класс во Флоренции процветал, люди могли позволить себе портреты своих детей. Популярность портретной живописи росла, и заказчики хотели, чтобы их дети выглядели как симпатичные малыши, а не уродливые гомункулы. Так во многом изменились стандарты в искусстве, а в итоге и в рисовании портретов Иисуса.
- Ренессансный идеализм изменил искусство
«В эпоху Возрождения, – говорит Аверетт, – вспыхнул новый интерес к наблюдению за природой и изображению вещей такими, какими их видели на самом деле ». А не в устоявшихся ранее экспрессионистских традициях. Это отобразилось и в более реалистичных портретах младенцев, и в прекрасных херувимах, вобравших лучшие черты от реальных людей.
- Детей признали невинными созданиями
Аверетт предостерегает от чрезмерного разграничения относительно роли детей в эпоху Возрождения – родители в Средние века любили своих чад не иначе, чем в эпоху Ренессанса. Но трансформировалось само представление о детях и их восприятие: от крошечных взрослых к невинным созданиям.
«Позже у нас появилось представление о том, что дети невинны, – отмечает Аверетт. – Если дети рождаются без греха, они ничего не могут знать ».
По мере того, как изменялось отношение взрослых к детям, то же самое отражалось в портретах малышей, написанных взрослыми. Уродливые дети (или красивые) – это отражение того, что общество думает о своих детях, об искусстве и о своих родительских задачах.
Почему мы по-прежнему хотим, чтобы наши дети выглядели красивыми
Все перечисленные факторы повлияли на то, что дети стали пухлощёкими персонажами, которые нам хорошо знакомы сегодня. И нам, современным зрителям, это легко понять, ведь у нас всё ещё сохранились некоторые постренессансные идеалы о детях.
1.Коллекционер Бахрушин
Расскажите, что вы коллекционируете или хотели бы коллекционировать. Аргументируйте. Кто были или стали бы первыми зрителями вашей коллекции?
Желание коллекционировать, в той или иной степени, является вполне естественным для любого человека. Оно было заложено еще в древности, когда люди занимались собиранием пропитания и предметов, которые бы могли помочь им в облагораживании своего жилища. Сейчас же коллекционирование, с психологической точки зрения, помогает человеку снизить личностную тревогу и чувство несовершенства нашего мира, также дает ощущение спокойствия и уверенности. Особенно коллекционирование присуще детям, многие из ныне взрослых людей в детстве коллекционировали что - то. Можно сказать, что, создавая коллекцию, некоторые тешат это «дитя» в своей душе.
Лично себя я не могу отнести к типу людей, которым нравится коллекционировать, мое отношение к вещам является сугубо практичным. Если бы мне и хотелось собрать большое количество определенных предметов, то только в целях использования всех их сразу. Поэтому собирание тех же монет для меня является странным процессом.
Но если уж я бы стал коллекционером, то (как безусловный сторонник информационных инноваций) бережно хранил бы самые удачные электронные сообщения от своих друзей и близких, ведь это мощное средство психологической поддержки и защиты от современных стрессов.
2. Айвазовский в Феодосии
Напишите подробное изложение. Опишите своё любимое произведение живописи, включив в рассказ несколько фактов биографии художника.
На меня огромное впечатление произвела картина Айвазовского "Девятый вал", написанная в 1850 году. Название её взято из народного поверья о том, что в общем ритме накатывающихся волн одна, девятая, заметно выделяется своей мощью и размерами среди других.
На картине изображено раннее утро после ночной бури. Первые лучи солнца освещают бушующий океан. Громадный "девятый вал" готов обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт. Я представляю себе, какая страшная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж корабля, как гибли моряки. Я думаю о том, как они с честью выдержали испытание, постоянно поддерживая друг друга.
Противостояние людей и стихии - вот тема картины. Есть смысл в борьбе, в воле человека к спасению, в его вере. И люди выживают, когда по всем законам им было суждено погибнуть!
Поражает необычайный реализм картины. Никто в то время в изображении морских стихий достичь такого не мог. В картине соединилось многое из виденного и испытанного самим художником. Особенно памятна была ему буря, которую он пережил в Бискайском заливе в 1844 году. Шторм был столь сокрушителен, что судно сочли утонувшим. В газетах даже появилось сообщение о гибели молодого русского живописца, имя которого тогда уже было хорошо известно.
Эта картина нашла широкий отклик в момент ее появления и остается до наших дней одной из самых популярных в русской живописи.
3. Ландыш
Выскажите своё мнение по поводу существующих экологических проблем, включив в рассуждение комментарий к словам Ралфа Уолдо Эмерсона: «Природа – вечно изменчивое облако; никогда не оставаясь одной и той же, она всегда остаётся сама собой».
Природа бесконечна, в ней нет случайного и лишнего – все разумно и взаимосвязано. Именно поэтому она совершенна.
Но часть самой природы, венец ее эволюции – человек – стал серьезной угрозой ее совершенству.
Развитие мирового технического прогресса, увеличение численности населения и нерациональное использование природных ресурсов Земли привело к появлению серьезных глобальных проблем в экологии. Человек 21-го века стал угрозой самому себе.
Сегодня экологических проблем – огромное количество. Но одна из тех, к которым мы, жители Донбасса, не можем остаться равнодушными – это обмеление и загрязнение Азовского моря. Главная причина этой проблемы – увеличение отбора вод рек Кубань и Дон, впадающих в море. В результате, вода в море стала более соленая, что вредит рыбе, особенно осетровым, и водной растительности. Если в ближайшее десятилетие ничего не будет сделано, наш любимый Азов просто превратится в болото, и люди потеряют уникальное, такое полезное для укрепления здоровья природное явление.
4. Подвиг Миклухо-Маклая
Напишите подробное изложение.
Расскажите о великом учёном, который, как и Миклухо-Маклай, думал о будущем народа.
Величина научного открытия (и популярности его автора), безусловно, определяется его практическим значением для людей. Великий греческий математик и механик Архимед является автором многочисленных открытий и изобретений, овеянных легендами и полезных до сих пор. Именно принимая ванну ученый придумал, как определить объем предмета неправильной формы. С криком «Эврика!» он открыл основной закон гидростатики: объем тела равен объему вытесненной им жидкости. Он соорудил систему блоков, с помощью которых одним движением руки смог спустить на воду тяжеленный многопалубный корабль. Это изобретение позволило Архимеду заявить: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!»
Но современники ученого, жители Сиракуз, поминают его имя добром, потому что он помог им одолеть римских захватчиков. Он соорудил мощные метательные машины, краны, захватывающие корабли противника (так называемые «когти Архимеда»), собрал более семидесяти гладко отполированных щитов и, сфокусировав на них солнечные лучи, поджег флот врага.
Такова была чудесная сила одного человека, одного дарования, что современник ученого, историк Полибий, считал, что римляне могли бы быстро овладеть городом, если бы кто-либо изъял из среды сиракузян одного старца.
5. Ф.М. Достоевский
Ф.М. Достоевский «любил всматриваться в лица, в фигуры, походку, жесты людей». Попробуйте и вы описать самого себя: лицо, фигуру, походку, жесты, мимику, характерные черты и т. д. Оформите свои наблюдения в виде портретной зарисовки.
Каждый человек окружен большим или меньшим количеством людей. Мы хорошо знаем и можем описать членов своей семьи, своих друзей и приятелей, многих знаменитостей. Но знаем ли мы себя, присматриваемся ли к собственным лицу, фигуре, походке, жестам?
Внимательно смотрюсь в зеркало… На меня пристально глядит стройная невысокая девушка с пушистыми темно-русыми волосами до плеч. Для друзей ее взгляд открыт и приветлив, на людей неприятных она часто смотрит хмурясь, исподлобья. Пусть небольшие, но внимательные … глаза – зеркало моей души – спрятаны от посторонних длинными ресницами.
Я, как и каждая современная девушка, стараюсь следить за собой, веду здоровый образ жизни, поэтому кожа у меня гладкая, светлая, на свежем воздухе на щеках появляется румянец.
В одежде я отдаю предпочтение молодежному стилю: джинсы, блузки и футболки светлых тонов, удобная спортивная обувь – вот скромная рамка к моему портрету. Я не люблю яркости, броскости ни в движениях, ни в поступках, ни в косметике. На мой взгляд, главное условие красоты – естественность.
6. Учиться говорить и писать
Напишите подробное изложение.
Согласны ли вы с мнением Д. Лихачёва, что «язык человека – это его мировоззрение и его поведение»? Аргументируйте свой ответ, включив в него рассказ о самом ярком впечатлении этого учебного года.
Я с большим удовольствием познакомился со статьей выдающегося российского филолога Д.С. Лихачева, она мне очень понравилась. Я, безусловно, согласен с академиком Лихачевым в том, что именно язык и речь человека являются самым ярким отражением его мировоззрения и поведения.
Как говорит человек, так, следовательно, и думает. Поэтому самый верный способ узнать человека - прислушаться к тому, что и как он говорит. Тогда можно будет многое сказать и о его взглядах, и о характере, и о возможном поведении в различных ситуациях.
Поэтому за своей речью - устной или письменной - надо следить постоянно. Недаром есть такая поговорка: «Язык мой – враг мой». А он должен быть другом человека! Поэтому перед тем, как сказать, необходимо хорошо подумать и взвесить каждое слово.
Язык не может быть плохим или хорошим... Ведь язык - это только зеркало, показатель личных качеств говорящего. Недавно я лишний раз смогла в этом убедиться. Пусть и в связи с печальными событиями, но с большим удовольствием посмотрела интервью с одним из талантливейших поэтов современности – Евгением Евтушенко. Как красиво и интересно рассказывал этот человек о событиях своей жизни и жизни целого поколения, об интересных людях, с которыми свела его судьба. И в его рассказах для меня сложилась, проявилась неординарная личность поэта. Вот уж прав был Сократ, сказав: «Заговори, чтоб я тебя увидел»! В массе все люди кажутся похожими, достаточно стандартными, но стоит человеку заговорить, и глубоко раскрываются его личные, индивидуальные достоинства.
7. Подвиг Ивана Федорова
Напишите подробное изложение.
Аргументированно ответьте на вопрос: как вы понимаете выражение «книжная печатная культура» и почему «время – лучший судия»?
Книжная печатная культура (то есть современное книгопечатание) сегодня, в эпоху информационных технологий, претерпевает значительные изменения, трансформируя мышление и человека-творца и человека-читателя. Больше всего эти процессы связывают с концепцией клипового мышления. Некоторые исследователи утверждают, что современные молодые люди не любят и не хотят читать, предпочитая познавать мир не через текст, а посредством видеофильмов и видеоигр, им проще работать с гипертекстом из коротких фрагментов, чем с длинным линейным текстом. Такие ученые предсказывают, что книга будущего будет представлять собой словарь с короткими, ссылающимися друг на друга статьями. Будет ли так? Рассудит время – лучшее средство проверки на прочность любой инновации.
Но сегодня можно смело утверждать, что люди продолжают читать книги – тонкие и толстые, для детей и взрослых. Причем, несмотря на конкурентоспособное существование книг электронных, печатная книга и печатная пресса своих позиций не сдают. Пока еще многие читатели отдают предпочтение именно печатному слову, самому процессу общения с книгой. Да и сами писатели считают, что текст, размещенный в Интернете, воспринимается как рукопись и не может конкурировать с опубликованным печатным изданием, обеспечивающим им настоящее признание и популярность.
8. Из истории возникновения книги
Напишите подробное изложение.
Порассуждайте над проблемой, поставленной автором в тексте: какой будет книга будущего? Какую книгу читали бы с удовольствием вы?
Книга существует уже очень давно, являясь древнейшим носителем информации. Первобытные люди передавали такую информацию посредством наскальных рисунков. Чуть позже перешли на бересту. Были и глиняные таблички, и папирусные свитки. Затем китайцы изобрели бумагу. Еще позже придумали буквы, стали переписывать книги вручную, пока не изобрели печатный станок. В результате мы имеем современную книгу - непериодическое издание, состоящее из бумажных листов, на которых типографским или рукописным способом нанесена текстовая и графическая информация.
Но мир не стоит на месте. Все мы являемся свидетелями огромного прорыва в сфере информационных технологий. Это касается и книг. Например, появились электронные книги. Это позволяет решить вопрос хранения больших объемов информации и отказаться от дорогостоящей бумаги. Думаю, что в скором времени книга, как таковая, полностью перейдет на электронные носители. Мне бы хотелось, чтобы при этом увеличилась ее информативность и наглядность. Очень интересно было бы почитать книгу о приключениях с «живыми», анимированными иллюстрациями.
Человек будет нуждаться в новой информации всегда. И какой будет книга будущего, не важно. Главное, чтобы ее читали!
9. Выбор жизненной цели
Напишите подробное изложение.
Как вы понимаете фразу «жизненно необходимая цель»? Сформулируйте свою главную жизненную задачу. Аргументируйте свой выбор.
Все мы к чему-то стремимся в своей жизни. Хотим кем-то стать, что-то иметь, где-то побывать. Цель в жизни – это маяк, без которого легко потеряться на жизненном пути.
Человек должен сознательно выбирать свою жизненную цель. От того, какую цель он выбирает, будет зависеть его самооценка. Ведь каждый оценивает себя по тем целям, которые он перед собой ставит. Только достойная цель позволяет человеку достойно прожить свою жизнь и получить настоящую радость. Важно при этом, чтоб наши цели не вредили нам: не портили наши отношения с близкими, не причиняли вреда окружающим.
Для меня «жизненно необходимой целью» на данный момент является получение заветной профессии. Я считаю, что это очень важный и ответственный шаг. Ведь любимая работа делает жизнь человека по-настоящему интересной, а неподходящая превращает ее в тяжкое бремя.
10. Лебедь-храм
Напишите подробное изложение.
Расскажите легенду или историю, связанную с известным храмом, включив в свой пересказ развёрнутое описание архитектурного сооружения.
Каждый православный храм, вроде бы созданный по определенным общим архитектурным канонам, неповторим и прекрасен по-своему.
На Красной площади в Москве еще в середине XVI века по приказу Ивана Грозного был воздвигнут собор Василия Блаженного. Его возводили русские зодчие Барма и Постник в ознаменование покорения Казанского ханства. По легенде, чтобы зодчие не смогли создать ничего лучшего, царь Иван IV по завершении строительства велел их ослепить.
Храм Василия Блаженного состоит из девяти церквей на одном фундаменте. Собор выстроен из кирпича. Центральная часть увенчана высоким великолепным шатром с «огненным» декором почти до середины его высоты. Окружают шатер со всех сторон купола, ни один из которых не похож на другой. Мало того, что различается рисунок больших луковиц-куполов; если всмотреться, то легко заметить, что и отделка каждого барабана уникальна.
Главное в облике храма то, что он лишен определенно выраженного фасада. С какой стороны к собору ни подойдешь – кажется, что именно она и есть главная.
Не раз этот уникальный памятник русского зодчества мог быть безвозвратно потерян. Его минировали, но не смогли взорвать французы в 1812 году, Каганович в 30-е годы, расчищая Красную площадь для парадов, убрал с ее макета этот храм, но Сталин скомандовал: «Лазарь, поставь на место!»
И сегодня мы видим в первозданной красоте этот памятник Веры и Таланта человека, хочется надеяться, - навсегда.
11.Царь-колокол и царь-пушка
Напишите подробное изложение.
Опишите впечатление, которое произвело на вас звучание колокола или органа, фортепиано или скрипки, включив в описание краткий пересказ художественного произведения, где упоминается один из этих музыкальных инструментов.
Все по-разному относятся к музыке, но все видят ее важную роль в жизни и судьбе человека и человечества. Так, например, К.Бальмонт писал об этом так: "Вся жизнь мира окружена музыкой. Когда земля при своем создании была уже готова к жизни, жизни все – таки еще не было. Тогда вдруг ветер промчался над полем и над лесом. И в волнах возник плеск, а в лесных вершинах гул. Через это в мире возникла музыка, и мир стал живой".
И это правда. Нет на свете ничего живее музыки. А самым живым из всех инструментов мне кажется скрипка, особенно в руках мастера. В своей книге «Осуждение Паганини» Анатолий Виноградов многократно описывал впечатление, которое производила на зрителей игра гения. Еще мальчиком он извлекал из огромного для его роста инструмента звуки, перекрывающие и хор, и оркестр. Казалось, что запела не одна, а десять скрипок. Даже священник, всегда обращенный к богу, почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть греховной жизни.
12. Удивительная женщина
Напишите подробное изложение.
Каких людей, по вашему мнению, можно считать добрыми людьми? Встречались ли на вашем жизненном пути такие люди? Дополните изложение кратким рассказом о них.
"Доброта - это то, что может услышать глухой, и увидеть слепой, " - говорил Марк Твен. Что же такое доброта и кто такие добрые люди?
Говорят, что светлый человек лучше всего виден в темноте. И в наше нелегкое время мы наблюдаем примеры настоящей доброты. Люди с большим сердцем делятся последним куском хлеба и кровом с оставшимися без жилья, сдают кровь, чтобы помочь раненым, организуют волонтерские центры для помощи переселенцам.
А если «перейти на личности», то хотелось бы упомянуть человека, который не оставил меня, равнодушным. Я думаю, образчиком по-настоящему доброго человека для моих современников может служить врач-реаниматолог, основатель фонда «Справедливая помощь», Елизавета Глинка. Это она в течение многих лет оказывала паллиативную помощь, кормила и одевала бездомных, давала им приют; это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса в лучшие больницы Москвы и Санкт-Петербурга; это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы.
Хотелось бы, чтобы истинно добрых людей было побольше. Ведь доброта – основа взаимоотношений между людьми. На ней стоит мир. Стоял и будет стоять.
13. Что объединяет людей
Напишите подробное изложение.
На мой взгляд, в мире нет ничего невозможного. Всем людям подвластны любые преграды. Если каждый человек начнет с себя, это будет его вклад в процесс изменения всего человечества. Только надо заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием срочно, не откладывать этого дела «в долгий ящик». И начать можно с приобщения к добру.
У добра много лиц: кто-то покормил птиц зимой, собрал игрушки и книги для детей в детский дом. Улыбнуться прохожему, сказать доброе слово – и это тоже доброта. Теплое участие может заменить подарок в праздник, помочь больному быстрее выздороветь, поднять настроение в грустный момент.
Мне особенно приятно окружать заботой мою бабушку, которая подарила мне столько тепла и добра в жизни! Она же научила им делиться, не жалея запасов души для людей.
14. От папируса до современной книги
Напишите подробное изложение.
Расскажите о книге, которую бы вы читали с удовольствием. О чём и о ком она должна быть?
Есть большое количество книг, которые являются актуальными на протяжении многих столетий. Их читали ваши предки, их будут читать ваши дети и правнуки.
В чем же феномен «нестареющих книг», их "вечной молодости"? По моему скромному мнению, причина в философских проблемах, которые они затрагивают.
Герои почти всех трагедий Шекспира бьются над решением вопросов, до сих пор волнующих каждого. Бороться ли со всемирным злом или смириться с ним – «быть или не быть» − дилемма, терзавшая не только принца Гамлета, но и многие последующие поколения. На какие поступки можно пойти ради своей любви, не устраивающей окружающих, − проблема не только Ромео и Джульетты, но и тысяч других юных влюбленных.
Роман И.C Тургенева "Отцы и дети" поднимает вопрос взаимоотношения двух поколений, их вечного конфликта. И каким образом такая книга может устареть?!
Старик Сантьяго, герой знаменитой повести Эрнеста Хемингуэя, не только со своими современниками, но и со всеми поколениями читателей делится важным жизненным принципом: «Человек рожден не для того, чтобы терпеть поражения».
Вот так же неподвластны времени и поражениям настоящие литературные шедевры!
15. Виды памяти
Напишите подробное изложение.
Проведите самоанализ и расскажите, какие виды памяти преобладают у вас. Почему вы сделали такой вывод? Аргументируйте.
Многие люди недооценивают важность памяти для саморазвития и рассуждают так: «Зачем тренировать память, если главное — не количество запоминаемого материала, а его качество». Это так, однако исследования доказывают, что, развивая память, мы развиваем и свои способности, особенно творческие.
Мне кажется, что особенно важно развивать различные по времени виды памяти.
Мгновенная память развита почти у всех. Это скорее образ, который мы получаем от столкновения с каким-либо событием. Длительность мгновенной памяти — от 0,1 до 0,5 секунды.
Хорошо, когда у человека развита оперативная память. Ее длительность — до 20 секунд. У нее имеется такое важное свойство, как объем. Вот над увеличением объема оперативной памяти мне надо поработать. У большинства людей он варьируется от 5 до 9 единиц информации. Вероятно, у Шерлока Холмса объем кратковременной памяти был больше десяти.
Еще мне, как и любому человеку, постоянно нужно развивать долгосрочную память,
позволяющую хранить информацию в течение неограниченного срока. Чем больше ты повторяешь важную информацию, тем сильнее она впечатывается. Для этого нужно развитое мышление и усилия воли, но именно эта память обеспечивает нас знаниями.
16. Функции русского языка
Напишите подробное изложение.
Вспомните о двух функциях языка, которые М. Панов считал основными (язык – средство общения и средство мысли) и напишите поэтическую или прозаическую оду русскому языку или слову.
Для меня русский язык – это не набор определенных лексических конструкций, благодаря которым люди могут передавать друг другу информацию, а палитра для ярких, живых чувств и ощущений. Когда я говорю на русском языке, используя всю широту его лексики, то раскрываю душу, показываю свой характер в полной мере.
На этом языке творили Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Лермонтов, которых признают и которыми восхищаются не только на родине, но и далеко за ее пределами. Ведь именно русская литература считается одним из величайших культурных достояний мира, потому что она способна и согреть сердце, и пронзить его острым копьем протеста, захватить страстью и заставить холодеть от ужаса. А главное, она смогла отразить загадочную русскую душу, которую не удавалось понять никому, потому что люди другой нации никогда не смогут поверить в то, что русский человек, пренебрегая законами самосохранения, материальным благам предпочтет духовные.
Только великому народу мог быть дан такой великий язык. Вот поэтому мы – русскоязычное великое и сильное государство. Каждое слово передает сильнейший дух нашего народа, и чем богаче язык, тем сильнее духом нация, тем сильнее ее культурное и историческое достояние.
17. Многоликий Куприн
Напишите подробное изложение.
Порассуждайте над вопросами: Какие книги не стареют? О ком и о чём они? Расскажите об одной из таких книг.
У каждого человека свои предпочтения, особенно в произведениях искусства. Я думаю, нет людей, не читающих книги,− читает каждый. И каждый выбирает то, что ему ближе, по душе: исторические романы, философские эссе, детективы. Но есть книги универсальные, неподвластные времени и личным склонностям, не оставляющие равнодушными никого – вечные книги. Такие книги заставляют задуматься о человеке вообще и о себе самом, о смысле человеческой жизни, о счастье и путях его достижения. Об этом писали Шекспир и Пушкин, Достоевский и Бальзак, Шолохов и Ремарк.
Книга, которая меня восхитила, – рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Я так понимаю, что не только меня, раз она принесла своему автору Нобелевскую премию. В центре повествования − вынужденный поединок человека с миром природы, частью которой он и сам является. И человек с честью выходит из этого испытания, потому что человека, по мнению автора, можно даже уничтожить, но победить – нельзя! Эта книга учит нас быть мудрыми и, понимая, что на свете ничто не дается легко, никогда не сдаваться.
18. «Боярыня Морозова»
Напишите подробное изложение.
Если бы вы были художником, задумавшим историческую картину, то о чём и о ком бы она была? Аргументируйте свой выбор.
История любого государства и всего человечества складывается из массовых эпохальных событий и судеб отдельных людей. И мне кажется, что зрителю проще понять крупное историческое событие, увидев его глазами рядового участника. Поэтому в центре моей картины были судьбы и образы простых людей.
Если бы я создал, подобно Илье Глазунову, цикл «На поле Куликовом», то центральными персонажами сделал бы не русских князей, и даже не их дружинников, а простых крестьян-ратников, бросивших недопаханные поля, чтобы защитить родную землю от врагов.
Если писал бы Бородинское сражение, то центральным персонажем сделал вот того «дядю» из стихотворения М.Ю. Лермонтова, который под командованием бравого полковника поклялся «умереть под Москвой» ради защиты отечества.
Героями картин о Великой Отечественной войне я бы сделал обычного солдата, медсестру, партизана, штрафбатника, ведь смерть за родину делает равными и равно достойными всех!
А еще я мог бы написать картину о сегодняшнем будничном дне моей Республики, люди которой стоят на защите ее рубежей, работают, учатся, отстаивая свою независимость и личное человеческое достоинство.
19. Чайковский и природа
Напишите подробное изложение.
Почему, по вашему мнению, слуга П.И. Чайковского назвал процесс сочинения музыки «святым делом»? Расскажите о том, какое влияние оказывает музыка на вас.
Святое дело… Так высоко говорят о деле чрезвычайно благородном, важном. О том, что почитается и высоко ценится людьми. Написание музыки относится именно к таким делам. Почему? Потому, наверное, что музыка оказывает на человека огромное влияние. Она может мобилизовать людей на совершенно непосильную работу, поднять моральный дух, взбодрить и развеселить, придает уверенности в себе. С другой стороны, она помогает расслабиться, успокаивает, даже заставляет грустить.
Музыка бывает самая разнообразная и, какую именно слушать, человек выбирает, опираясь на свои личные предпочтения. Я не поклонница, но человек, старающийся приобщиться к классической музыке. А это не так-то просто.
Такая музыка нужна всегда. Она приносит нам мечту, зовет в ту страну, где никакие проблемы и мелочи не смогут охладить любви, где никто не отнимет нашего счастья.
Я не поклонник, но человек, старающийся приобщиться к классической музыке. А это не так-то просто. Никто не станет слушать классическую музыку, перебрасываясь последними новостями на перемене или проталкиваясь к прилавку в буфете. Не надеваем же мы вечернее платье, когда идем выбрасывать мусор, не готовим каждое утро на завтрак торт со взбитыми сливками. Серьезная музыка – это «деликатес» из праздничного меню, это «бриллианты» из фамильных драгоценностей. И время серьезной музыки, я думаю, приходит к каждому человеку, как и время больших решений, большой любви. Такая музыка нужна всегда, а в наше (чересчур рационалистическое) время тем более. Она приносит нам мечту, зовет в ту страну, где никакие проблемы и мелочи не смогут охладить любви, где никто не отнимет нашего счастья.
Непристойные зайцы, архиепископ в аду, святой Суворов и «инфографика» про Троицу. Линор Горалик поговорила с авторами книги «Страдающее Средневековье» о том, почему нам не стоит так уж гордиться тем, как далеко мы ушли в своем культурном развитии от средневекового человека.
- Про «картиночный» проект «Страдающее Средневековье» знают, кажется, все - а как возникла книга?
Михаил Майзульс, историк-медиевист: Мой ответ делится на две части: одна практическая, другая теоретическая. В практическом плане все совершенно просто - со мной связались создатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов, которые предложили сделать книгу по средневековой иконографии для издательства «АСТ». Так все и началось.
А в идейном смысле я пришел к этому проекту, задавшись вопросом о том, как работает «норма» в сакральном - средневековом или современном - искусстве. Что такое нарушения нормы? Что в разные времена разрешалось, а что не разрешалось делать с образами святых и богов? Какие новации в их изображении воспринимались как «эксперимент», а какие - сразу как скандал и богохульство? В свете нынешних карикатурных войн, историй с закрытием выставок или спектаклей и привычки религиозных активистов оскорбляться от имени своих святынь эти вопросы кажутся более чем актуальными.
Понятно, что все это началось далеко не вчера. Скажем, в эпоху Реформации, в XVI веке, шли ожесточенные споры вокруг того, какие образы могут находиться в сакральном пространстве храма, а какие - нет, что есть идол, а что - икона. Когда Католическая церковь в ответ на критику со стороны протестантов решила «очистить» собственный культ от сомнительных изображений, она стала изгонять из иконографии многие образы, которые в Средневековье были вполне в порядке вещей. Например, изображения, где сакральное переплеталось со смешным или непристойным, любую сатиру в адрес духовенства и т.д. Нам может казаться, что по сравнению со Средневековьем, с его «канонами» в сакральном искусстве Нового времени торжествуют сплошные «свободы». Однако это часто совсем не так - и многое из того, что было возможно в Средние века, потом стало казаться сплошным святотатством.
- Как выбирался инструментарий для того, чтобы об этом рассказать?
Майзульс: Я решил подумать о том, какие средневековые сюжеты лучше всего показывают границы тогдашней нормы. И в итоге написал три главы книги: про маргиналии (где священное часто пародируется или смыкается с непристойно-телесным); про гибридизацию и карикатуру (почему на полях псалтирей и часословов, которые вовсе не создавались еретиками, можно было увидеть клириков в виде странных гибридов и это было нормально); про то, как в средневековой иконографии применялись нимбы.
Казалось бы, всем известно, что нимб - исключительно маркер святости. Но в реальности все было устроено гораздо сложнее. Порой нимбы получали даже негативные персонажи - вплоть до Антихриста и самого Сатаны. Дело в том, что нимб, унаследованный христианской иконографией от более древних культов, исходно означал не столько высшую добродетель, сколько высшую (земную и небесную) власть, сверхъестественную природу своего обладателя. И отзвуки этих представлений продолжали жить в средневековом искусстве.
АСТ
Дильшат, что в этом проекте заинтересовало вас - вы ведь в основном занимались «серьезной» средневековой иконографией, у вас классическое искусствоведческое образование?
Дильшат Харман, искусствовед: Да, мы изначально занимались серьезными религиозными изображениями, которые всегда опирались на евангельские тексты или на тексты средневековых комментаторов. В какой-то момент я обнаружила, что есть огромное количество совершенно непонятных средневековых изображений, не вписывающихся в эту картину, - например, рельефов обсценного характера, маргиналий на страницах манускриптов, - и меня мучил вопрос: что это вообще такое? Что это за фаллосы, женщины в непристойных позах, мужчины, демонстрирующие интимные части тела?
- Многочисленные неприличные зайцы.
Харман: Зайцы - это было бы еще ничего. А там неприличные люди! Я стала делать попытки найти источники и объяснения этим образам, и эти занятия спровоцировали переосмысление более серьезных изображений - я стала понимать, как это все связано на самом деле, как складывается общая картина средневековой иконографии, потому что эти образы, конечно, оказались не отдельным явлением, а частью общей визуальной картины. Проект «Страдающее Средневековье» тоже, конечно, мимо меня не прошел - и в нашем русском варианте, и в англоязычных изводах (например, Discarding I mages и многие другие сообщества). Мы недавно говорили с литературным критиком Варей Бабицкой, и она сказала очень любопытную вещь: вот эти средневековые картинки в каком-то смысле становятся скрепой либерального интернет-сообщества.
- Почему? Как?
Харман: Вот именно - почему именно средневековые картинки приобретают такую силу? Почему так мало античных картинок или даже более поздних изображений в сопровождении смешного текста? Потому что средневековое сочетание строгости и свободы производит очень сильный эффект. При этом метод «Страдающего Средневековья» - антииконографический: иконография ищет текстовый источник, а «Страдающее Средневековье», наоборот, берет непонятную картинку и предписывает ей новый текст. И вот в этом пространстве между классической иконографией и новой антииконографией возникает мой интерес к теме - и мое участие в этой книге.
- Сережа, как к этой книге пришли вы?
Сергей Зотов, культурный антрополог: Моя история выглядит несколько иначе: к иконографии я пришел из литературоведения. Главы, которыми занимался я, - про «христианский бестиарий», трехглавые Троицы, про алхимическую иконографию и «профессиональные» атрибуты Бога - все это приходило мне в голову еще очень давно, но жило на уровне, скорее, текстологического интереса. Изображения трогали меня во вторую очередь, а в первую - текст, на котором они основаны. При этом Discarding Images для меня было очень приятным открытием, «Страдающее Средневековье» - тоже, это были сообщества, благодаря которым тема визуального постепенно захлестнула меня. И когда зашел разговор о том, как выстраивать книгу и какие сюжеты мы могли бы в нее включить, у нас, мне кажется, сразу органично сложилось мнение о критериях выбора: все кейсы должны показывать что-то неприемлемое и неприличное (на современный взгляд) в средневековом сакральном искусстве. Поэтому в книгу органично вошли мои излюбленные средневековые иконографические казусы: звериные головы святого Христофора, рожки Моисея, многоглавые и многорукие тетраморфы, монструозные Троицы; аллегории, представляющие Христа в виде представителя некоей профессии или даже неодушевленного предмета; переосмысление христианской образности алхимией. Вся эта иконография для современного человека, особенно живущего в России, выглядит дикой, неуместной и несовместимой с концепцией христианской духовности.
Почти каждый читатель этого интервью наверняка знаком с онлайн-проектом «Страдающее Средневековье». Почему эти картинки находят такой замечательный отклик? Это из-за контраста высокого и низкого?
Майзульс: Мне кажется, дело действительно в контрасте, но в другом. Прежде всего, большая часть картинок «Страдающего Средневековья» вообще не принадлежит к разряду «высокого» или какого-то духовно-возвышенного. Там, конечно, есть миниатюры на библейские или житийные сюжеты. Но, кажется, еще больше иллюстраций из исторических хроник, рыцарских романов, бестиариев, энциклопедий и других светских сочинений. Еще важнее, что большинство этих сюжетов, думаю, нынешними российскими зрителями как нечто высокое совершенно не воспринимается. Вот если бы «Страдающее Средневековье» брало образы, скажем, из древнерусской иконописи и решило накладывать шутки на сцены из жития Сергия Радонежского - вот тогда бы ему сразу припомнили контраст низкого и высокого.
Мне кажется, что мемы на основе миниатюр со средневекового Запада так «взлетели», потому что они подкупают своей инаковостью. Такой же проект с кусочками изображений, взятыми из искусства античности или из русских передвижников XIX века, вряд ли бы оказался настолько востребован. Просто потому, что их визуальный язык слишком хорошо знаком (кому-то - по музеям, кому-то - по репродукциям в учебниках) и в нем нет такой манящей новизны. А средневековый визуальный мир - это нечто странное, непонятное, кое-где романтическое, кое-где варварски-непосредственное, но при этом не настолько чужое, как, скажем, искусство Африки или Японии. Разглядывая его, зритель-неспециалист может восхищаться игрой форм, но не знает, на чем остановить взгляд, так как образы не вызывают у него никаких ассоциаций. А со Средневековьем все идеально совпало: тут и инаковость, и узнавание (рыцари, святые, демоны).
И еще важный фактор: средневековые миниатюры в таком количестве и разнообразии стали доступны массовому зрителю совсем недавно - благодаря тому, что крупнейшие музеи и библиотеки оцифровали и выложили в сеть огромное количество рукописей. Раньше эти залежи были доступны только специалистам и покупателям дорогих альбомов. В музее все разноцветье средневековой миниатюры не увидишь.
Так что, по-моему, одна из главных причин популярности «Страдающего Средневековья» - не в контрасте высокого и низкого, а в контрасте между инаковым и «нашим», «сегодняшним»: рыцарские замки, а на них «баблы» с шутками про собянинскую реновацию.

Как бы читался зрителем проект, аналогичный «Страдающему Средневековью», но с русской православной иконой - она ведь бывает в высшей степени загадочной, нечитаемой, странной? Такой проект мог бы вообще жить - не с точки зрения цензуры, а с точки зрения зрительского восприятия?
Майзульс: Я думаю, что мы бы этого не узнали: такой проект очень быстро прекратил бы свое существование, потому что им бы тотчас занялись как возмущенные граждане, так и всевозможные органы, которые привлекли бы его создателей по всевозможным статьям.
Слушайте, но ведь ваша книга в этом смысле тоже на грани допустимого: вы, кажется, много говорите об изображениях святых, Христа, Богородицы. У вас есть чувство «рискованного проекта»?
Майзульс: Нет, все-таки мы над ними не шутим, а объясняем, как они были «устроены» в Средние века. Да и, кроме того, в России европейская иконография не воспринимается практически никем как сакрально значимая. Для этого она слишком чужая. Поэтому охотников оскорбиться на то, что кто-то недостаточно почтительно прокомментировал изображение, созданное в XIII веке, надеюсь, не найдется. Не знаю, согласятся ли со мной Дильшат и Сергей.
Харман: Я бы сказала так: с одной стороны - да, чужое, но с другой стороны - не настолько чужое, чтобы не опознаваться. Есть какие-то общие темы. Да, в «Страдающем Средневековье» случаются смешные изображения или маргиналии, непонятные широкому зрителю - да и не всякому специалисту понятные без объяснений. Но есть и такие картинки, на которых ты явно видишь изображение святого - пусть и не понимая, какого именно. Как, например, в знаменитом меме со святым Дионисием, держащим свою голову, и репликой, поданной голосом советской учительницы: «А голову ты дома не забыл?» Конечно, юмор строится на том, что, даже если зритель не опознает конкретного святого, он понимает, что это святой. Оскорбление в этом усмотреть можно - но никто не будет этим заниматься, когда существует такое количество более подходящих для нападок вещей.
Зотов: Мне кажется, что создать сообщество, аналогичное «Страдающему Средневековью», на русской православной иконографии - да еще и сообщество популярное, «всенародное» - невозможно. Например, у меня есть небольшой паблик про странную иконографию - «Иконографический беспредел», который возник на волне работы над этой книжкой. Я иногда туда выкладываю «странные» русские иконы - что-нибудь типа святого Григория Распутина или святого Суворова. На сообщество, естественно, подписано какое-то количество верующих людей. Оно им нравится, потому что несет образовательные функции и рассказывает кое-что не только об изображениях, но и о самой религии в уважительном тоне. Но иногда у некоторых подписчиков случаются вспышки гнева, потому что они считают, что я выкладываю неправильные иконы, они не соответствуют православным канонам, их нельзя показывать. Я думаю, что попытайся я сделать это сообщество массовым и с уклоном именно в православную иконографию - оно не было бы таким популярным, все-таки для людей важно расстояние от изучаемого (или осмеиваемого) объекта; поэтому-то в России удобнее говорить о западной иконографии, еще удобнее - о средневековой.
Как изначальные адресаты исследуемых вами изображений их воспринимали (понятно, что и адресатов, и изображений было несметное множество - и все разные, но все-таки)? И насколько хорошо они понимали этот визуальный язык? Вообще как смотрел на эти картинки тот, кому они были предназначены?
Майзульс: Тут нет единого ответа, потому что нет какого-то единого зрителя. У нас в книге есть миниатюры из рукописей, предназначавшихся для очень эксклюзивного, состоятельного, элитарного (в социальном и в образовательном плане) круга. Есть изображения паломнических значков с околосексуальными сюжетами. Скажем, перед нами паломники, но не в облике людей, а как фаллосы и вульвы, одетые в широкополые паломнические шляпы и с посохами в руках. Такие значки производили тысячами из дешевых материалов, и они были доступны любому. Есть изображения публичные, помещавшиеся на стены храмов, а есть сугубо частные, которые никто, кроме их владельцев и их близких, не видел. Соответственно, какой-то единой публики, которая бы что-то воспринимала, понимала или не понимала, не существует.
Плюс когда мы, как историки, пытаемся реконструировать значение тех или иных образов (что делали фаллосы или вульвы на стене церкви, что значат пародийные маргиналии на полях молитвенника), мы обычно исходим из того, что есть визуальный язык, который в эпоху, когда эти образы создавались, был зрителю понятен, а нам, далеким потомкам, утратившим к нему ключ, уже недоступен или доступен частично. Однако нужно понимать, что многие образы и в Средневековье для большинства их зрителей оставались загадкой. Взять, например, сложные иконографические программы витражей, украшающих готические соборы. Основная масса прихожан, вероятно, смотрела на них как на многоцветную мозаику, из которой глаз выхватывал какие-то знакомые фигуры (скажем, святых, которым они пришли помолиться). Но сложные типологические параллели между Новым и Ветхим Заветами средневековый паломник, пришедший к какому-нибудь святому Томасу Бекету в Кентерберийский собор, явно не понимал.
Из нашего сегодня мы, увы, не можем четко разделить все эти аудитории и узнать, что конкретный образ означал для каждого, - просто потому, что текстов, где бы разные категории средневековых зрителей описывали свое восприятие, почти нет. Поэтому наш «средневековый человек» в единственном числе - это всегда проекция исследователя.
Харман: Вообще вопрос о важности зрителя возникает в истории искусства довольно поздно. Например, Эрвин Панофский, знаменитый искусствовед и основоположник иконологии, полагал, что главное - текст, на котором основаны изображения, а кто на эти изображения смотрел и как он их понимал - совершенно неважно. А с другой стороны, у отца иконографии Эмиля Маля уже встречаются рассуждения о зрителе - скажем, о том, что изображения на портале готического собора могли быть почти непонятны крестьянину, более образованный зритель мог уже распознать библейские сцены, а клирик - глубоко проникнуть в их значение. Естественно, сама способность средневековых людей по-разному воспринимать искусство никогда не отрицалась, но задумываться о важности этого восприятия стали в общем-то совсем недавно - и тогда же появились разные подходы к его изучению: например, недавно возникшие феминистический и гендерный подходы начали задаваться вопросом о том, насколько по-разному мужчины и женщины могут воспринимать одно и то же изображение. Еще один подход исследует, для кого создавалась та или иная рукопись, - и интерпретирует изображение соответственно: есть, скажем, знаменитая интерпретация рукописи «Песнопения Ротшильда», сделанная Джеффри Гамбургером и вся целиком построенная на том, что владелец был женщиной; будь владельцем мужчина, интерпретация не имела бы смысла. С точки зрения старой искусствоведческой школы все это - ненужная болтовня: ведь тут в ход идут предположения и интерпретации. Но сегодня у общества появляется язык, на котором можно обсуждать вещи, не обсуждавшиеся раньше, - сексуальность, гендерные проблемы, материнство, родительство, и применим этот язык не только к современной жизни, но и к разговору о прошлом - в частности, о средневековом искусстве. А применив его, мы начинаем видеть то, чего не видели раньше, просто не замечали, потому что нам в голову не приходило, что эти вопросы можно обсуждать. Мне кажется, это удивительным образом расширяет понимание средневекового искусства, понимание того, как оно влияет на нас - и как его воспринимал человек Средневековья.

Сергей, а как воспринимается сегодняшним зрителем современная религиозная иконография, насколько она «читабельна»?
Зотов: Тут очень важно различие между разными конфессиями. Что-то, что неприемлемо для русских православных, для украинских грекокатоликов может быть абсолютно нормальным - скажем, икона Богоматери с младенцем, который держит футбольный мяч, сделанная на Украине к чемпионату мира по футболу, росписи, где среди ангелов, Святого семейства и других святых встречаются политические персонажи: есть, скажем, святое семейство Ющенко, достаточно известная икона. Есть примеры «осовремененных» фресок и в России - например, «Страшный суд» Павла Рыженко, где ад изображен как падение Америки и доллара, а в рай входят только русские. Я думаю, что такие доступные «слои» политизированной информации возникают, в первую очередь, потому, что политика сегодня вездесуща. Многим прихожанам приятно считывать современность в иконах, во фресках, в других церковных произведениях. Но так исторически сложилось, что в православной церкви больше уважения к канону, поэтому иконографические рамки должны в основном оставаться незыблемыми - во всяком случае, так это видит широкая публика, - и, когда православное изображение пытаются осовременить, большинство людей искренне недоумевает или возмущается. В то же время католики абсолютно нормально относятся к такого рода экспериментам, потому что они у них происходили на протяжении всего Средневековья, Нового времени и современности. Поэтому важно понимать, что нет никакой иконографии в вакууме - она всегда заточена под зрителя, и, как результат, «странных» изображений в православном каноне появляется мало, а если они и возникают, то в основном благодаря маргинализированным движениям внутри православия вроде скопцов, царебожников или последователей Русской катакомбной церкви истинно-православных христиан.
Как возникла пресловутая сверхчувствительность современного российского православного человека, оскорбляющегося любым покушением на канон (ясно, что тут тоже нельзя делать никакие обобщения, но общий смысл моего вопроса, наверное, понятен)?
Майзульс: Это вопрос огромный. Я скажу только об одном его аспекте. Во-первых, разные христианские традиции, как Сергей начал объяснять, на самом деле устроены по-разному. В православной (в частности, в русской) версии христианства икона - это материальное отражение небесного прообраза, неизменный эталон, передающийся сквозь века. На самом деле иконография со временем сильно меняется, но часто мыслится как неизменная и неприкосновенная.
В католической традиции Средневековья и раннего Нового времени культовые образы тоже играли огромную роль. А их почитание (с ожиданием от них чудес и видений, попытками силой принудить их к помощи, околомагическими практиками, когда, например, со статуи соскабливали камень или краску, а потом их растворяли в воде и выпивали в надежде на исцеление) было по формам часто аналогично тому, что мы встретим в православном мире. Однако на Западе иконография была намного более изменчива и разнообразна, чем в восточном христианстве, а количество вариаций в трактовке одних и тех же догматов (например, о Троице) было намного больше. Можно сказать, что внутри границ, заданных богословием и церковной дисциплиной, поле художественного маневра мастеров и их заказчиков было сравнительно велико. Поэтому в западном мире издавна была привычка к визуальному разнообразию сакрального.
Во-вторых, мне кажется важной еще одна привычка - к визуальной сатире. На Западе уже в Средневековье, которое воспринимается (в общем-то правильно) как время если не всеобщей, то полувсеобщей веры, насмешливые, пародийные, а то и просто сатирические образы (в том числе направленные против духовенства) встречались даже в самом церковном пространстве. Например, было вполне нормально, что на капители Страсбургского собора вырезан сюжет из популярной средневековой истории про Рейнхарда-Лиса (во французском варианте - Ренара). Чтобы хорошо пожрать, он притворяется клириком и начинает проповедовать перед птицами, а потом пытается их слопать. Так что от Средневековья до нас дошла масса изображений лиса в виде епископа, обращающегося к своей птичьей пастве. Кого эта сцена высмеивала? Хитрецов и лицемеров, которые рядятся в духовных наставников? Духовных наставников, которые порой оказываются хитры и лицемерны, как лисы? Какой бы смысл изначально ни вкладывался в такие изображения, они вполне могли толковаться как сатирический выпад в адрес духовенства в целом. И такие сценки можно было увидеть в храмах.
Потом, в XVI веке, Римская церковь вступает в борьбу с Реформацией. Протестанты активно использовали сатиру, чтобы подорвать легитимность католической иерархии и таинств. В новом контексте пародия на церковные ритуалы, которая в Средневековье была в порядке вещей, стала слишком опасной. И в XVII в. капители с Рейнхардом-Лисом в Страсбургском соборе было решено сбить.
Тем не менее на католическом, а потом и на протестантском Западе многие века существовала мощная традиция визуальной сатиры в адрес духовенства, да и в адрес самих основ вероучения. Например, на полях средневековых часословов можно было изобразить обезьяну в виде священника, который служит мессу, держа в руках горшок с нечистотами. И такие образы создавали вовсе не художники-еретики для заказчиков-еретиков. Это был, видимо, внутрицерковный смех над самими собой или смех светской аристократии над клириками (которые, в общем, тоже часто были выходцами из тех же знатных семейств).
В визуальном пространстве русского православия такого почти не встречалось. Так что возьмите представление об иконе как о священном эталоне, добавьте к нему аллергию на всякую сатиру в адрес веры (воспоминания о советских антирелигиозных кампаниях никуда не делись), приправьте нынешними политико-религиозными играми в традиционные ценности - и получите объяснение, почему столько людей убеждено, что их святыни в опасности.
Харман: Важно при этом не валить все изображения в одну кучу. Те картинки, которые мы видим в «Страдающем Средневековье», - не очень-то священные в том смысле, что им никто не поклонялся. Есть изображения, явно являвшиеся предметом преклонения, - некоторые миниатюры целовали, защищали с помощью специальных занавесочек, - но по сравнению с общим числом миниатюр их не так много. Маргиналии, над которыми смеются, тем более сложно сравнивать с иконами. Я думаю, что православная гиперчувствительность относится именно к иконам, потому что на икону молятся, она - больше чем просто картина. Если же «ВКонтакте» появится сообщество, которое будет использовать не иконы, а, скажем, какие-нибудь византийские миниатюры из псалтирей, рельефы - например, из Дмитриевского собора во Владимире, - это вряд ли кого-то оскорбит. Не все, относящееся к искусству древнерусскому, византийскому и так далее, обладает той же степенью высоты и священности, что и икона.
Мне кажется, что противостояние условно оскорбленных верующих современному искусству говорит нам, что речь идет не только об иконе, - но, конечно, без проверки этот тезис остается умозрительным, да и неизвестно, насколько там оскорбленность искренняя, а насколько заказная.
Майзульс: Я даже могу дать совет потенциальным создателям «Страдающего русского Средневековья»: им стоит взять за основу тысячи миниатюр Лицевого летописного свода Ивана Грозного - там рассказывается библейская, античная, византийская и русская история. И найдутся сюжеты на любой вкус.

Мне кажется, они порвут рынок. А какую роль играло в средневековом часослове изображение обезьяны-епископа с ночным горшком? Для чего иллюстратор помещал его на полях книги, заказанной вполне себе набожным патроном?
Майзульс: Такие изображения играли множество ролей, некоторые из них от нас уже ускользают. Но базовые - это все-таки, думаю, развлечение и услаждение взора заказчика. Часто с примесью сатиры на разные сословия. Ведь обезьяны и другие звери изображали не только духовенство (пап, епископов и аббатов, монахов разных орденов, приходских священников) - были обезьяны-рыцари или врачи, разглядывающие склянки с мочой, горожане и крестьяне.
Порой странные маргиналии на самом деле привязаны к тексту - но не к его общему смыслу, а к конкретным отрывкам или словам, которые они визуализируют или как-то обыгрывают. Некоторые из таких рисунков могли служить чем-то вроде зарубок, помогающих взгляду читателя ориентироваться в священном тексте или в гигантском, состоящем из тысяч параграфов юридическом трактате.
Зотов: При этом не только католики и протестанты были свободолюбивыми художниками, рисовавшими «странные» вещи, - в исламской традиции тоже можно обнаружить интересные и совершенно нестандартные, на современный взгляд, изображения. Особенно интересные процессы происходили в регионах, где влияние других религий - например, христианства или гностических течений - было достаточно сильным. Особенно отличились народы, которые проживают в Албании, - существует абсолютно чудесная иконография как у мусульман-бекташей, так и у христиан, которые живут рядом с ними. На христианских иконах мультиконфессиональной Албании можно увидеть минареты мечетей на заднем фоне, потому что в Средневековье на изображениях библейских сцен вообще было принято рисовать не воображаемую «древнюю» архитектуру, а ту, что окружала художника (в Европе вместо минаретов мы увидим готические соборы). В свою очередь, бекташи рисовали что-то вроде «исламской Троицы» - Мухаммеда, Фатиму и имама Али в окружении ангелов, будто сошедших с католических икон. Для бекташей влияние христианской иконографии было настолько сильным, что они могли изображать исламских святых примерно в той же манере, в которой христиане изображали своих. В Иране уже в XX веке создавались изображения молодого Мухаммеда, основанные на известной фотографии Рудольфа Леннерта. Это, конечно, абсолютно еретическая вещь для суннитов: в их иконографии в принципе изображение живого существа не очень-то приветствуется, а уж людей и тем более Пророка - и вовсе запрещено. Но на персидских миниатюрах и современных шиитских образах мы можем видеть неприличные, с точки зрения современных и средневековых суннитов, изображения Мухаммеда, иногда даже с не закрытым вуалью лицом.
Майзульс: Вообще интересно, что средневековые образы порой продолжают будоражить современное сознание, в том числе и в Европе. В частности, это бывает связано с напряжением между западным и исламским миром - или, скорее, с претензиями мусульманских радикалов к старой христианской иконографии (которая, само собой, была предельно далека от политкорректности). В соборе Сан-Петронио в Болонье есть фреска, изображающая Страшный суд (XV век), где - вслед за «Божественной комедией» Данте - в аду изображен пророк Мухаммед. В 2000-е годы о ней заговорили в новостях, когда некоторые представители мусульманской общины заявили, что присутствие Мухаммеда в преисподней означает оскорбление ислама (и это чувство отчасти можно понять). Один из радикальных исламистских лидеров Адель Смит, глава Союза мусульман Италии (известный требованием убрать из школ распятия и запретить преподавание Данте в школах с большим процентом учащихся-иммигрантов), обратился к папе римскому и архиепископу Болоньи с призывом уничтожить фреску. А в 2002 г. итальянская полиция арестовала пять исламистов, которые, как утверждали, собирались атаковать базилику.
Я бы хотела как раз поговорить о том, что под землей, про врага веры и его царство. Мне всегда казалось, что у автора визуальных высказываний в православии было при изображении ада больше свободы, чем при изображении мира горнего; что здесь собирался и православный бестиарий (у которого, конечно, есть и наземный филиал), и даже какие-то сатирические образы появлялись...
Зотов: Конечно, в изображении ада художник мог позволить себе больше, чем в изображении мира горнего. Это прекрасно иллюстрируется тем фактом, что на изображениях Страшного суда в аду наряду с простыми грешниками и еретиками очень часто оказывалось еще и католическое духовенство - эта традиция была особенно распространена в Италии; в Германии на некоторых фресках до сих пор можно увидеть людей с тонзурой, католических монахов, жарящихся в аду. Католики рисовали своих монахов в адском пламени для того, чтобы показать, что клирики не отправляются на небеса автоматически только за то, что они служат Богу. Любой человек может быть грешным или праведным, и в посмертной жизни Бог оценит его заслуги. Но после того, как протестанты начали создавать примерно такие же изображения, подчеркивая, что на картинках именно католическое духовенство, такие изображения попали под запрет. В принципе, любое изображение ада - будь то буддийская нарака, китайский диюй или японский дзигоку - это потенциальная возможность продемонстрировать внутри сакрального пространства что-то неслыханное и невиданное, несовместимое с религиозной моралью, например, насилие.
Майзульс: Однако ад аду рознь. Одно дело, когда мы просто изображаем преисподнюю с нагими грешниками и упражняемся в том, как бы поизобретательнее показать демонов-палачей и все немыслимые казни, которыми они там заведуют. Другое - когда мы помещаем в преисподнюю конкретные социальные типажи и даже конкретных исторических персонажей. Сергей прав: в западных образах преисподней мы часто видим католических клириков (папы опознаются по их тиарам, епископы - по митрам и т.д.), поскольку они - тоже люди и у них нет иммунитета от греха. Но дурные епископы и священники встречаются и на древнерусских фресках или иконах Страшного суда, где в нижнем правом углу обычно помещается море пламени. Разница между православной и католической иконографиями состояла, прежде всего, в детализации и политической актуальности таких образов. На западных Страшных судах в адском пламени можно порой увидеть не только обобщенные типажи («дурных монахов», «рыцарей-грабителей», «иудеев»), но и реальных персон из далекого и недавнего прошлого (от древних ересиархов до королей-тиранов).
Харман: В православной традиции тоже есть такие прецеденты - сразу в голову приходят изображения Лермонтова и Толстого в аду. Лермонтов в аду был изображен в сцене Страшного суда в храме Рождества Богородицы в Подмоклове. Лев Толстой в аду тоже появился на периферии, в Знаменской церкви села Тазово Курской области. Это изображения очень знаменитых людей, которые воспринимаются заказчиками как грешники и размещаются на фресках по их просьбе. Я думаю, таких случаев гораздо больше, чем нам известно; перед нами взаимодействие искусства и реальности, реакция искусства, которое показывает не «как есть», а «как должно быть».
Зотов: В целом же на протяжении многих веков изображения православного ада в чем-то менялись, но схема оставалась очень жесткой. Конечно, художник мог изобразить демона разными способами или показать каких-то актуальных и неугодных Церкви персонажей в преисподней - но на самом деле сегодня «необычные» изображения на православных иконах гораздо чаще имеют отношение к горнему, так как ад сильно регламентирован. В то же время такая известная православная икона с необычной иконографией, как «Чернобыльский Спас», созданная в России и переданная в Киев, показывает, что ядерная катастрофа - это ад на земле. Так образ ада радикально переосмысливается исходя из современных реалий.

Между миром горним и преисподней находится мир дольний; ваша книга рассчитана, если я правильно понимаю, не только на экспертов, но и на читателей, для которого эти образы могут лежать за пределами «высокого искусства». Почему важно говорить о них с таким читателем?
Зотов: В XIX веке имел место скандал, сильно продвинувший вперед искусствоведение как науку. Он связан с именем Джованни Морелли - искусствоведа-самоучки, который сумел придумать инновационный способ атрибуции картин. Раньше исследователи смотрели на какие-то характерные черты работы того или иного художника - например, на улыбку в работах да Винчи - и пытались основывать атрибуцию на них. А Джованни Морелли впервые заметил, что можно обращать внимание на считавшиеся совершенно незначимыми, вторичными элементы изображения, использовать статистику - и получать удивительные результаты в плане атрибуции. Например, можно приглядеться к форме ушей или пальцев второстепенных персонажей - к тому, что искусствоведы обычно не воспринимают как нечто важное. На основе этого метода он безошибочно атрибутировал очень много картин - чем, естественно, шокировал искусствоведов, потому что в их понимании все эти мелкие детали анализировать было просто неприлично. Как это так - человек пытается анализировать высокое искусство криминалистическими способами, упуская всю духовность! Так вот - мы в своей книге описываем изображения, о которых до сих пор не очень удобно и не очень прилично говорить (как минимум в кругах неспециалистов). Можно посмеяться над этими изображениями, как это делает «Страдающее Средневековье», но если начать осмыслять их и думать, откуда и почему они появились, то разговор пойдет на грани запретного - придется поднимать темы, которые не принято обсуждать в современном обществе: секс, гендерные отношения, насилие, смерть, монструозное, мирское внутри сакрального.
Майзульс: Любопытно, что в XIX веке, когда, по сути, начинается профессиональное изучение средневековой иконографии, многие из тех сексуальных, странных, нестандартных образов, которые в последние десятилетия захватили воображение историков, почти не удостаивались комментариев со стороны исследователей. Это понятно - им еще предстояло описать основной массив библейских сюжетов, историй из житий святых. Не до «маргиналий». Но дело не только в этом. Когда исследователи сталкивались с тем, что сами считали недозволенным и невозможным (например, с «непристойностями» на стенах храмов), они часто описывали это так уклончиво, что читатель, вероятно, не мог толком понять, что именно там изображено, либо просто отказывались видеть очевидное.
В нашей книге есть фрагмент, посвященный сексуальным образам в романской скульптуре Франции, Испании, Англии и Ирландии. Существуют ирландские фигуры под названием «шила-на-гиг» - это женские персонажи (чаще всего помещавшиеся на стены храмов), которые раздвигают себе руками вульву. Одна из самых известных таких фигур находится в Англии, на стенах церкви в деревне Килпек. Один английский исследователь в XIX веке, описывая этот храм, сообщал, что видит шута, который раздирает себе грудь и открывает сердце. При этом абсолютно очевидно, что грудь находится в совершенно другом месте. Видимо, викторианские приличия не позволяли увидеть немыслимое. Такие реакции - даже со стороны историков - регулярно встречаются и в XX веке.
Мы хотели бы рассказать нашим читателям о сюжетах, которые либо почти не проговаривались на русском языке, либо проговаривались слишком вскользь, либо - как это было со средневековой пародией - в основном обсуждались на материале текстов, а не изображений.
Кроме того, мне, наверное, было важно показать, насколько средневековая иконография была разнообразна. Одна из самых опасных вещей - это мышление о культуре с помощью готовых этикеток. Когда речь заходит о Средневековье, люди сразу начинают спрашивать историка, действительно ли этот период был таким мрачным и черным, как это обычно считается. Просто Средневековье воспринимается как гигантский монолит, который можно описать с помощью одной краски. Например: «Это было время высокой христианской духовности и смелой рыцарственности». Или: «Это была страшная эпоха мракобесия и невежества». Однако на самом деле как нет единого «средневекового человека», так нет и никакого единого «Средневековья».
Средневековая христианская иконография столь же разнообразна. Крошечный амулет с изображением фигурки святого из Южной Италии, резьба на воротах церкви в Норвегии, монастырская рукопись из Ирландии, алтарь, написанный Яном ван Эйком для богатого бюргера, совершенно не похожи друг на друга, питаются из разных источников и совсем по-разному «устроены».
Наша книжка рассказывает про границы между сакральным (образами Христа, Богоматери и святых) и смешным, сексуальным, магическим, алхимическим. О переплетении миров, которые в Новое время сталкивались намного реже (да и то обычно в пространстве так называемой народной культуры) либо вовсе считались несовместимыми. Мне хотелось показать, насколько границы священного подвижны и неоднозначны, как они меняются с веками и, в общем, насколько они зачастую условны.
Харман: С одной стороны, как мы и написали в предисловии, хочется вернуть зрителя к изначальному пониманию изображений, показать, на чем они основывались с точки зрения классической иконографии. С другой стороны, хочется объяснить, что были изображения, которые не основаны на текстах, но тем не менее их все равно можно классифицировать, увидеть в них отсылки к социальному и культурному контексту. Они могут казаться совершенно хаотическими и непонятными - но тем не менее их можно разделить на категории и показать законы, по которым изображения строятся. Еще одна задача - сопоставить изображения, которые иллюстрируют одни и те же концепции и тексты, но меняются в соответствии с целями заказчиков или восприятием авторов. Есть и особый нюанс. С точки зрения того же Эмиля Маля, имеет значение только то, что было создано сознательно, а то, что появляется бессознательно, совершенно не важно и не заслуживает анализа - это просто фантазии. Мы же хотели показать, что, может быть, даже сам художник работал не вполне сознательно - например, что какие-то жесты он передавал в своих работах совершенно машинально. Сейчас мы смотрим на эти элементы иконографии и видим логику, которую тоже можно как-то объяснить, проанализировать и понять. Мы хотели показать читателю, что средневековое искусство - это не замкнутый, навсегда сложившийся феномен, но вещь, которая развивается в силу нашей способности по-новому ее увидеть.
Зотов: Мне, в свою очередь, кажется, что очень важно если не разрушить, то хотя бы поколебать уверенность массовой культуры в том, что средневековый человек вставал с утра, надевал шлем, рубился насмерть на турнире, сжигал пару еретиков, спасал красавицу в башне, а перед сном надевал чумную маску и засыпал. Для меня иконография - в первую очередь, окно в то, как думал человек в Средневековье, и при внимательном рассмотрении начинаешь понимать, что тогдашний человек и человек теперешний не так уж и сильно различаются в своих стремлениях и исканиях. Например, средневековый человек так же, как и мы, хотел денег - и поэтому занимался алхимией. Боялся насилия внешнего мира, боялся закона - так возникло изображение Христа с дубинкой, который разгоняет верующих, поедающих яйца в пост. Пытался найти философскую истину - и выстраивал сложные концепции того, как устроен Бог и как устроена Троица; хотел показать непростые отношения между ипостасями наглядно - и рисовал своего рода «инфографику» о Троице. Ему нужно было удовлетворить свои романтические и сексуальные потребности - и мы видим «неприличный» декор на храмах, изображения с эрекцией Христа в сценах распятия, миниатюры на сюжеты о поцелуях и объятиях монахинь с Иисусом. Средневековый человек жаждал развлечений - и увлекался изображениями диковинных монстров на полях... Словом, он был похож на современного и не являлся каким-то чуждым для нас существом. Поэтому гордость современного человека по отношению к средневековому, возможно, должна быть сильно поуменьшена: да, мы проделали долгий путь, и невозможно отрицать наши достижения, но внутри нас до сих пор сидит примерно тот же человек, что и 1000 лет назад.
Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии. - М.: АСТ, 2018. 416 с.