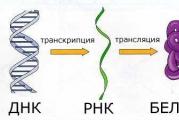Ими же веси. Молитвы на разную потребу
Британские полицейские вместе с коллегами из Латвии расследуют дело банды работорговцев, занимавшихся поставкой бесплатной рабочей силы в Англию. Это уже не первый случай, когда в Европе находят прибалтийских невольников, которых отправили на «заработки» латвийские и эстонские бюро по найму. Впрочем, и в самих республиках Балтии нередко используют подневольный труд. При этом местные рабовладельцы заманивают потенциальных невольников из менее благополучных стран бывшего СССР и Восточной Европы. Негативные аспекты прибалтийского рекрутинга изучила .
Мелкий шрифт никто не читает
Недавно в Латвии задержали 51-летнего жителя этой страны, обвиняемого в торговле людьми в Великобритании. Суд счел необходимым поместить задержанного под арест на время следствия. В рамках этого же дела еще год назад в английском городе Дерби (графство Девоншир) были арестованы пятеро его соотечественников - Айнарс Пелцис, Илгварс Пелцис, Карлис Александров, Магдалена Клейна и Йоланта Пелце. А чуть позже в аэропорту Донкастер-Шеффилд Робин Гуд полиция задержала другого участника этой же преступной группировки по имени Марек Кайр. Еще четверых работорговцев, так или иначе связанных с латвийской группой, арестовали в феврале 2018 года (судить их будут в Великобритании).
В ходе операции удалось вызволить десятерых граждан Латвии, ставших жертвами торговли людьми, - их отдали под опеку социальных служб. «Был языковой барьер, поэтому они не обратились в », - объяснил поведение пострадавших начальник отдела полиции Латвии по борьбе с торговлей людьми Армандс Лубартс. Формально эти люди трудились в Великобритании за очень небольшое вознаграждение. Это не запрещено законом, однако, как выяснили полицейские, на самом деле работники вообще не имели доступа к банковским счетам, открытым на их имя. Работорговцы сдавали их внаем одному из местных предпринимателей, у которого была компания по производству стройматериалов. Если же кто-то пытался требовать свои деньги, его запугивали, били, угрожали убийством.
«Мы очень серьезно относимся к сигналам о торговле людьми и современном рабстве, - пояснил изданию The Independent руководивший операцией в Дерби глава детективного отдела местной полиции Рик Элтон. - Такие случаи нередки - люди едут в Великобританию, где им пообещали хорошую работу и лучшую жизнь. Но это часто превращается в эксплуатацию, когда жертвы вынуждены работать за маленькие деньги или вовсе без оплаты. У них нет денег, а документы оформлены так, что уйти от работодателя им очень сложно».
Примечательно, но все десять латвийцев, освобожденных во время последней операции, отказались возвращаться на родину и продолжили работать на том же предприятии. Правда, теперь свою скромную зарплату они получают в срок и полностью.
В ходе расследования выяснилось, что пострадавших от группы латвийских рекрутеров было намного больше. Работорговцы вербовали потенциальных жертв в Риге и ее окрестностях, в городах Тукумсе и Юрмале. Им обещали безбедную жизнь в Англии и подсовывали на подпись договоры, изобилующие сносками и приписками, напечатанными мелким шрифтом. Как выяснилось, никто из пострадавших не удосужился детально изучить все условия контрактов. Они просто ставили подписи в надежде на лучшую жизнь.
Жертв, к слову, выбирали из числа социально неблагополучных - обремененных долгами, одиноких, склонных к алкоголизму. «Ведь кто становится жертвами трудового рабства, фиктивных браков, сексуальной эксплуатации? Те, кто в Латвии сталкиваются с социальными проблемами, - рассказывает Армандс Лубартс. - Если говорить о конкретно этом случае, то все потерпевшие - выходцы из социально неблагополучной среды».
Некоторые из рабов, отработав весь срок контракта и оставив жуликам заработанные деньги, вернулись на родину. «Часть из них мы нашли. Но они себя потерпевшими признавать не хотят. Это такой ментальный феномен, - объясняет Лубартс. - Мужчины считают: лучше быть обокраденными, но не признавать, что были в рабстве». Это являлось составной частью плана преступников: они точно рассчитали, что психологически мало кто готов признать, что по своей глупости, добровольно отправился в рабство.

Кадр: Jon Austin / TheExpressOnline / YouTube
Избивали и травили собаками
Задержания в Дерби стали частью масштабной операции по пресечению практики подневольного труда в Великобритании. До этого, на протяжении 2014-2016 годов полиция Великобритании провела задержания в графствах Дербишир, Линкольншир, Ноттингемшир и Лестершир, освободив 140 невольников. Предположительно, в Англии сейчас около 13 тысяч человек пребывают в состоянии фактического рабства. Большинство из них - выходцы из бедных стран типа Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии и Болгарии.
А в мае нынешнего года прокуратура литовской Клайпеды завершила длившееся несколько лет расследование о торговле людьми. На скамье подсудимых оказалась супружеская пара из Великобритании и литовец Эдикас Манкявичюс. Последний с 2006 по 2012 год вербовал доверчивых литовцев, обещая им «легкую и высокооплачиваемую работу», и отправлял к своим британским сообщникам. Даррел Гогтон и его жена Жаклин Джудж владели компанией DJ Houghton в графстве Кент. Вместо легкой работы и высокой зарплаты легковерные литовцы получили невыносимые условия на птицеводческой ферме.
У работников не было никаких социальных гарантий, они трудились даже по ночам, без выходных и отпусков, а зарплата оказалась намного меньше обещанной. К тому же по факту она вообще не выплачивалась: часть работодатели удерживали за проживание и питание, а полностью обещали рассчитаться «потом, попозже». При этом проживали работники в антисанитарных условиях, спали на полу на матрасах и не имели доступа к медицинской помощи. Если кто-то отказывался выходить на работу, требуя оплаты и лучших условий, его наказывали - Манкявичюс применял к несговорчивым физическое и психологическое насилие. Несчастных избивали и травили бойцовыми собаками, угрожая спустить их с цепей. Злоумышленники пользовались тем, что обманутые ими работники не владели английским, не знали местных законов и даже не имели денег, чтобы связаться с кем-то на родине.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Успешный бизнес рабовладельцев закончился, когда их жертвы все же нашли способ обратиться в суд с жалобой на владельцев компании. Один из пострадавших по имени Лауринас рассказал, что попал в рабство в 19-летнем возрасте польстившись на заманчивые обещания. Реальность оказалась ужасной: тяжелый труд, жизнь впроголодь, угрозы. Однажды он осмелился попросить у хозяев заработанные деньги, но был жестоко избит.
«Я сказал, что сперва мне нужна моя зарплата, но мне отказались ее выдать. Вместо этого меня избили и предложили отдохнуть два дня - со сломанными ребрами», - содрогаясь от воспоминаний рассказал Лауринас. Когда он немного отлежался, ему велели собирать вещи и убираться. Рассказы Лауринаса и его собратьев по несчастью просто потрясли стражей порядка. В итоге английский суд обязал компанию DJ Houghton выплатить шести приезжим из Литвы компенсацию в миллион евро.
Сектанты - лучшие рабы
Но было бы ошибкой думать, что прибалтийские страны только вербуют потенциальных рабов и отправляют их в Западную Европу. Немало невольников, как оказалось, трудятся в Эстонии, к слову, наиболее развитом государстве Балтии. В отчете о современных формах рабства за 2016 год отмечалось , что «Эстония является страной-источником, страной транзита и страной назначения для женщин и девушек, подвергаемых сексуальной эксплуатации, а также для мужчин, женщин и детей, принуждаемых к подневольному труду». Авторы доклада утверждают, что эстонских граждан принуждают к подневольному труду - как на родине, так и в других странах Европы. В основном они трудятся на стройках и сезонных работах.
Эксперты Госдепа также указывают, что Эстония не только отправляет своих граждан в рабство за границу, но и сама принимает иностранных невольников, в первую очередь с Украины и из Вьетнама. Авторы отчета делают вывод, что «правительство Эстонии не должным образом выполняет стандарты по ликвидации торговли людьми».
Подобные отчеты составлялись и раньше. Депутат эстонского парламента Андрес Анвельт еще в 2011 году с горечью заявил , что очередной доклад Госдепа «ставит нас в один ряд с Нигерией, Афганистаном, Казахстаном и Бангладеш».
За прошедшие годы мало что изменилось. Не так давно в украинской прессе появился рассказ 55-летнего жителя Закарпатской области Василия, рассказавшего о том, как он ездил с сыном за «длинным евро» в Эстонию. Ему предложили заняться реставрацией фасадов старинных зданий, обещали платить не менее 2000 евро в месяц. До Таллина Василий с сыном добирались в автобусе с группой таких же работников, которые оказались . В Эстонии их поселили в общежитие, по четыре человека в комнате и сразу взяли с каждого по 100 евро - объяснив, что деньги нужны для изготовления удостоверений, подтверждающих право на работу.

В итоге вся группа из 30 украинцев и 20 молдаван оказалась в рабстве. Вместо реставрации старинных фасадов они по двенадцать часов в день утепляли пятиэтажки в спальном районе, получая по 25 евро в неделю на питание. «Этого хватало разве что на макароны. Хорошо, что кусок сала из дома привезли…», - вспоминает Василий. Так прошел месяц, но обещанных денег работники не увидели. Тех же, кто начинал требовать расчета, угрожали сдать в полицию за нелегальную работу. «Именно тогда мы и поняли, что попали в кабалу. А наши так называемые рабочие удостоверения - обычная липа», - рассказывает украинец.
В таких условиях они отработали почти два месяца. Хозяйка фирмы Юля всем недовольным говорила: «У меня связи везде, ты никто, рот откроешь - сразу звоню в миграционную службу, и тебя моментально депортируют». Взрослые мужчины сидели, молча выслушивали эти угрозы и терпели. Те, кто осмелился перечить хозяевам, горько об этом пожалели. «Нескольких закарпатцев действительно депортировали, причем они перед этим еще и посидели в каталажке, - говорит Василий. - Вернулись домой - без денег и без права въезда на территорию Евросоюза на пять лет. Не шутила Юля...»
Получив за свою работу деньги на обратную дорогу, Василий уже на родине нашел адвоката и попытался обратиться в правоохранительные органы. Но там ему сразу сказали, что дело трудное и бесперспективное, ведь он действительно работал в ЕС без разрешения - следовательно, незаконно. Именно на это и рассчитывают рабовладельцы, оставляя своих невольников на нелегальном положении. Тогда же, кстати, выяснилось, почему в группе Василия было так много сектантов - в силу своих убеждений те не могут свидетельствовать против своих угнетателей. Идеальные рабы…
Постараемся детально ответить на вопрос: ими же веси судьбами молитва на сайте: сайт - для наших многоуважаемых читателей.
Мнение о том, что театру не место в жизни христианина, а артисты не наследуют Царство Божие, довольно распространено в церковной среде. Однако все чаще мы слышим, как известные актеры и режиссеры рассказывают с экранов телевизоров о собственном опыте обретения веры, о своем участии в церковной жизни. На страницах православных журналов публикуются их интервью, где они живо, интересно и вовсе не по-дилетантски рассуждают о различных проблемах взаимоотношений Церкви и современного общества. Знаем мы и такие случаи, когда актеры оставляют служение искусству, о котором порой мечтали с самого детства, и всецело посвящают себя служению Богу. Наш город тоже знает не одну подобную историю. И сегодня мы беседуем с актрисой театра кукол «Теремок» и одновременно помощницей ризничей Покровского храма Татьяной Бердниковой о том, возможно ли сочетать жизнь в Церкви и игру на театральных подмостках и что в природе актерской профессии рождает подобные сомнения?
Расположенность к актерству во мне проявлялась с раннего детства, я все время что-то показывала, копировала других артистов, с упоением выступала на школьных мероприятиях. И классу к 6-7 пришло осознанное желание получить профессию актера. Я поступила в Саратовскую консерваторию к Александру Семеновичу Чертову на отделение актера театра кукол. Он всегда нас учил, что главное – внутреннее движение. Он говорил: «думай текстом». И я, кстати, совсем недавно это вспомнила, когда молитвенное правило читала: "думай текстом". То есть надо так принять слова молитвы, рожденные в сердце другого человека, чтобы они стали твоими собственными. То есть эту молитву, как у нас говорят, надо внутренне присвоить. И именно от Чертова я впервые услышала притчу о талантах: Бог дал кому-то на 5 копеек, а кому-то на рубль, и каждый должен отработать свое. Вот так в моей жизни все тесно завязывалось еще тогда. Кто бы мог подумать, что какие-то знания оттуда теперь получат иное значение.
- А тогда Вы уже была верующим человеком?
Нет. Я знала, что вроде как есть Бог, но до определенного момента не ставила перед собой вопрос о том, как я отношусь к Его существованию. Это как бы и вовсе меня не касалось. А ведь теперь я вспоминаю, что Господь кротко, осторожно ко мне в сердце все-таки стучался. Когда меня крестили в 12-летнем возрасте, навсегда запомнила только одно: вышли из храма, и я вдруг почувствовала, что сейчас взлечу. Такое внутри было ликование, такой неописуемый восторг - в меня вошел космос. Я, конечно, не понимала, что со мной происходит. А просто я тогда родилась. Потом, в студенческие годы, захотелось мне, ни с того ни с сего, выучить молитву «Отче наш». Выучила и часто повторяла - не то, чтобы молилась, но так мне нравилось произносить эти слова. Чувствовала, что прикасаюсь к чему-то таинственному, неизведанному, но очень желанному.
- А как же все-таки поняли, что существование Бога имеет отношение и к Вам лично?
Вы, как я понимаю, тогда в «Теремке» работали. Диссонанса не возникло: актриса и в храме? Ведь лицедеев, как делающих нечто противное Богу, когда-то даже не хоронили вместе с прочими христианами, и об этом факте любят говорить как в театральной, так и в церковной среде.
Диссонанс был, еще какой! Мучилась ужасно, металась. Не могла понять, действительно ли моя профессии не угодна Богу сама по себе, или просто исторически так складывалось, что театр превращался и до сих пор часто превращается в «школу дьявола», как про него говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Одновременно думала: «Ведь я же в детском театре работаю, мы в основном играем спектакли, с добрым, даже христианским наполнением, и все-таки в зрителях нечто доброе и светлое пробуждаем». Хотя, по правде сказать, тогда у меня были и другие роли, спектакли, требовавшие, образно говоря, моей крови. Профессия действительно опасная: ты не сыграешь роль, не создашь образ, пока не начнешь думать, как твой персонаж. Как этого добиться? Надо в себя его принять, впустить. Но если потеряешь бдительность, то можно, погружаясь в этот тонкий мир, туда провалиться, буквально лишиться рассудка. Поэтому я чувствовала, что правильно было бы уйти из профессии.
Здесь-то как раз и возникла ризница… Это было мое первое Причастие, к которому я шла полгода с такими трудностями, думала, что, наверное, совсем я конченый человек, раз Господь меня к Себе не допускает. Причастилась, стою счастливая, и сзади меня кто-то по плечу. Обернулась - Света. Я ее знала со студенческих лет, она училась на отделении драмы на старшем курсе. Помнила, какая она была - актриса до мозга костей, болела за дело, профессией горела до фанатизма… А тут: ушла из театра и шьет церковные облачения. Где-то через пару месяцев я оказалась у нее в гостях, мне было очень интересно, как она живет и чем. За разговорами она достала недошитые поручи и показала мне, даже цвет толком не помню. Но в сердце как электрический разряд ударил, как призыв. Говорю: «Света, научи меня!» И она мне так спокойно: «Бери благословение, научу». Было ощущение абсолютной радости, чуда. Я стала ходить в ризницу Покровского храма, по силе помогать Свете, что-то вроде подмастерья. Постепенно начали и обучение. И мне это дело так полюбилось, тянуло в ризницу до слез. А потом появилась в храме штатная единица помощницы ризничей. Вот я на эту должность и попала, и по сей день здесь. Я ушла тогда из театра, никто из моих знакомых этого не понимал, кто-то крутил пальцем у виска, кто-то объяснял мой поступок якобы профессиональной невостребованностью, что, конечно, ошибочно. Были у меня роли и главные, и заглавные, интересные, драматические, помимо работы с куклами много живого плана. Мне пожаловаться не на что.
- Покинув «Теремок», Вы поддерживали общение с театральным миром?
В храме как раз сменился настоятель, и все завертелось по-новому: другие требования, другой ритм работы. Поэтому изоляция от прежнего круга общения и от какого-либо другого общества получилась вынужденная – времени просто не хватало на все. При этом меня в профессию не тянуло, я не скучала по ролям, по творческому процессу. И не оттого, что была уставшая или с презрением начала к этому относиться, а просто я, видимо, переросла театр. Мне это вдруг стало не так важно. Центр жизни сместился в сторону Церкви и всего, что здесь происходит.
Вы когда шьете, думаете о символике и назначении церковных облачений: набедренник - духовный щит, палица - духовный меч?
Нет, как правило, во время работы больше сосредотачиваешься на технической стороне процесса. Но когда происходит какой-то сбой, вдруг понимаешь, что это не просто какие-то одежды вроде специальной формы. Настоящая брань бывает за этот труд. Причем с этим не только я сталкивалась. Конечно, сама по себе одежда не несет благодати, но у каждой детали существует традиционное символическое значение. Поэтому отношение должно быть однозначно благоговейным.
Во время службы удается абстрагироваться от работы или все равно смотрите, оцениваете, где морщит, где плохо поглажено, где, может быть, некачественно сшито?
Ой, да! Ругаю себя за эти мысли, потому что Господу в момент богослужения нужно совсем другое. Но согласитесь, что в храме не должно быть никакой небрежности, потому что это - дом Божий, и нехорошо, если что-то на службе отвлекает на себя внимание, тем более какой-то изъян во внешнем виде священнослужителя.
- А что тогда помогает сосредоточиться на службе, какие Вы находите для себя «духовные подпорки»?
Я если чувствую, что внимание рассеялось, то стараюсь подумать о том, что в данный момент на богослужении происходит. Потому что хочется поскорее вернуться в это живое общение с Богом, хочется диалога. Вообще у меня есть очень ясное понимание, во что я больше никогда не желаю возвращаться. Есть и новый опыт - опыт церковной жизни, который мне бесконечно дорог. Я боюсь этого лишиться.
- Однако меньше, чем через год, Вы вернулись обратно в театр, почему?
Когда в семье начались финансовые трудности, я стала молиться Матери Божией, чтобы эта ситуация как-то поправилась, или чтобы я смогла смириться и принять ее. И буквально через три дня моих усиленных молитв, вдруг звонят из театра: «Таня, выручай, пожалуйста!». Дело в том, что у них попала в беду актриса, с которой мы работали на одной роли. А ведь я знаю, что такое театральное производство, как сложно кого-то срочно заменить в спектакле. Такого поворота событий я не ожидала. Не знала, как к этому относится, потому, что с одной стороны мое материальное положение могло бы действительно поправиться благодаря этой работе, а с другой стороны я боялась, что на меня начнут давить: возвращайся, мол.
- Не думали, что это просто искушение, проверка на верность?
Думала. Пошла к тогдашнему ключарю, игумену Викентию: «Вы знаете, что я бывшая актриса?» - «Ну, бывших актрис не бывает»,- ответил он мне, шутя. Я стала объяснять ему ситуацию, но он меня даже не дослушал, благословил. Тем ни менее я долго не могла успокоиться, сомневалась. Даже другой наш батюшка, увидев мои метания, отругал меня: «К тебе люди обратились за помощью, иди!». Возвращаться было трудно, никакой радости я не испытывала. Даже стала немного унывать, чувствуя себя исторгнутой с брачного пира за неподобающую невечернюю одежду. Ты, мол, артистка, туда и иди. А в этой своей прежней среде я была уже немного чужая, и сожалела, что согласилась. Но потом задумалась, а не ропщу ли я этим на Господа, будто Он здесь совсем ни при чем? Теперь я это вижу, что если бы я не вернулась в театр, то с некоторыми людьми возможно бы никогда не смогла выправить отношения, в себе бы не смогла что-то выправить. Вижу и то, как можно преодолеть опасности актерской внутренней работы над ролью, о которых говорила выше. Имея пусть самый маленький опыт молитвы, опыт иного труда души, я уже намного точнее чувствую, где ей угрожает опасность, и через что она может получить повреждение. И также знаю, у Кого искать защиты и помощи. А потом, я считаю, надо ко всему относиться, как к заданию от Бога. Важно не сколько ролей и как ты сыграл, а что ты принес ими другим. Ведь на самом деле грех актера в том, что он транслирует, что сеет. Чем роль наполнишь, то и отдашь зрителю: от избытка сердца говорят уста. А лицедействовать можно, даже посещая храм.
- Кстати, как здесь отнеслись к Вашему возвращению в прежнюю профессию и как Вас приняли в театре?
В театре хоть и случается иногда какое-то нездоровое любопытство, шушукание за спиной, подколки, провокационные вопросы, но в целом это прошло. Мои коллеги относятся ко мне с уважением. И я стараюсь быть максимально искренней и открытой, чтобы они чувствовали, что моя вера не мешает быть для них близкой, несмотря на перемены, которые во мне произошли. А в церковной среде были моменты непонимания, что-то вроде: «А-а, так ты актриса?! То есть, стало быть, спасаться не хочешь?! Ясно!». Но я стараюсь ко всему относиться, как к духовной школе.
У Вас никогда не возникало желания совсем оставить работу в Церкви и приходить в храм только на богослужения, чтобы меньше замечать какие-то несовершенства?
Действительно проще пытаться ничего не видеть, не знать. Но это - утопия, и путь в никуда, так, наверное, не научишься любви. А потом, когда у меня выдается много работы в театре, я, что называется, познаю в сравнении, понимаю: без ризницы не смогу. По театру не скучаю, а по ризнице - да. И еще сейчас вспомнилось изречение митрополита Алмаатинского и Казахстанского Иосифа (Чернова): «Паук извлекает яд из цветка, дающего пчеле мед. Из цветка исходит яд и мед, смотря, кто будет брать…». Все зависит от того, на что ты направлен, надо все-таки свое внутреннее око выправлять. Ведь если Церковь - это лечебница духовная, то странно искать здесь здоровых. А перед Христом все равнозначны, Он для нас Один и Тот же, Чаша со Святыми Дарами - одна для всех и условие спасения одно - любите друг друга.
Вы производите впечатление человека, чья жизнь по-настоящему наполнена. Наверное, такую наполненность дает радость встречи с Богом. Но вот создать семью Вам пока не удается. Это как-то с верой связано? Ведь иногда людей просто пугает сугубая религиозность, невозможность свободных, как сейчас принято говорить, отношений.
У меня как-то не очень складывалось еще до прихода в храм. Сначала внимание полностью забирала профессия, потом последовала череда предательств, а когда я уже нашла человека, с которым была готова создать семью и прожить с ним всю жизнь, он погиб. Может быть, это все промыслительно, и мне просто надо жить именно так, одной - таков мой путь, и я его заслужила. Конечно, иногда не хватает понимающего и надежного друга сердца - стены, опоры, что естественно - это мы из них вышли. Вот женщина и ищет свое изначальное место в «реберном ряду». Но я не прошу у Бога этого. А что Он Сам мне уготовит. Лишь бы помог со смирением это принять и всё пройти. Мое главное желание: только спаси, имиже веси судьбами.
скрыть способы оплаты
скрыть способы оплаты
Подпишитесь на рассылку Православие.Ru
- В воскресенье - православный календарь на предстоящую неделю.
- Новые книги издательства Сретенского монастыря.
- Специальная рассылка к большим праздникам.
Ими же веси судьбами. часть первая
В памяти остался отцовский колючий джемпер, к которому я прижималась мокрой от слез щекой:
– Не забывай меня, Ксюша…
Легкая, почти невесомая ладонь скользила по моим волосам. В коридоре стоял чемодан с вещами.
Еще из ранних воспоминаний у меня остались бурные сцены, которые устраивала мама отцу. Она рыдала на всю квартиру, заламывала трагически руки, падала в обморок. Не хватало только пыльных театральных кулис и аплодисментов зрителей – ее актерский дар предназначался только домашним. В такие минуты отец уходил на кухню и молча сидел там, опустив голову.
Однажды он сбежал от скандала, хлопнув дверью так, что зазвенела люстра в прихожей. Мать бросилась следом. Она торопливо шагала за отцом по улице в домашних тапочках и оскорбляла его. Отец не оборачивался, делая вид, что грубости, летящие в спину, не относятся к нему. Прохожие останавливались и удивленно смотрели на родителей. Мать сняла с ногу правую тапку и запустила в отца. Тот не остановился. Тогда она бросила левую и попала ему в затылок. Отец замер, осознавая, что на всей земле нет уголка, где бы он мог укрыться, и, ссутулившись, направился домой. Мать победила.
Я тоже принимала посильное участие в семейных дрязгах. Обычно я садилась на пол, стучала по нему кулаками и кричала громко, на одной ноте:
Мать вспыхивала, на щеках проступали красные пятна:
– Наташа, хоть дочь пощади, – взмаливался отец.
– Хватит выть! – это уже мне. – Рот зашью!
Я умолкала и забиралась под рояль в большой комнате. Мы сидели там с рыжим плюшевым медвежонком и тихо ссорились. Он не слушался меня, капризничал и пищал.
– Замолчи! – говорила я игрушке. – Хватит выть, рот зашью.
Медвежонок умолкал и испуганно таращил на меня пластмассовые глаза.
В доме, сколько себя помню, была очень напряженная атмосфера. Отец и мать сидели по разным комнатам, но даже через стену каждый чувствовал неприязнь другого.
Потом и во все настало время, когда родители уже не могли находиться в одной квартире. Едва отец приходил с работы, мать тут же собиралась к подруге.
Когда дверь захлопывалась, отец открывал форточки в доме, словно хотел выветривать неразразившуюся грозу, и подмигивал мне:
Чаще всего мы просто устраивали возню на полу. Отец щекотал мне пятки, я дрыгала ногами, уворачивалась и хохотала так, что было слышно на лестничной клетке.
На ужин отец готовил картофельное пюре и варил сосиски. Для меня он выкладывал на тарелке забавные картофельные рожицы, кружки сосиски были глазами и носом, томатной пастой отец рисовал рот и брови. Рожица улыбалась мне, я улыбалась рожице.
Но иногда отец не хотел со мной играть. Он ходил по комнате, обхватив локти, как будто его знобило. Он думал о своем, взрослом, и я не смела мешать. Мы с медвежонком забирались в домик под роялем и грустили.
Наконец отец садился к инструменту. Мне были видны его руки, покойно сложенные на коленях в ожидании музыки. Потом руки взлетали, и в следующую секунду рояль над моей головой гудел всей утробой.
То, что играл отец, было трудно назвать музыкой в привычном понимании этого слова. Это был ритм: жесткий, гипнотический, напряженный, будто древние скальные породы сдвинулись со своих мест, столкнулись, и мир залила кипящая лава. Все вокруг меня приходило в движение. Я зажимала уши ладонями, чтобы не оглохнуть. Отец пугал меня своей игрой. Трудно было ожидать от худого, сутулившего человека такой мощи, напора, энергии. Когда отец вытаскивал меня из-под рояля и на руках нес в постель, я всматривалась в его глаза, пытаясь разглядеть в них человека, способного играть такую сильную и страшную музыку.
Отец мой был пианистом, и, как говорили гости нашего дома, весьма талантливым. Но что-то не сложилось в его творческой карьере сразу после окончания консерватории. Я слышал о некоей «комсомольской истории», которая «погубила будущее» отца. Наверное, в ней и крылась разгадка охлаждения чувств со стороны матери: хотела быть женой перспективного пианиста, стала, по ее словам, женой изгоя.
Работал в ту пору отец, несмотря на блестящее образование, преподавателем в музыкальной школе. Впрочем, на судьбу не жаловался и себя не жалел.
Он пробовал учить меня музыке, разглядев какие-то способности, но мать быстро оборвала наши занятия.
– Не морочь ребенку голову, – выговаривала она. – На жизнь музыкой не заработаешь.
Без отца дом для меня стал пустым, как подворотня старого дома, где гуляют беспризорные сквозняки. Онемевший стоял в зале маленький, кабинетный рояль, укрытый льняным чехлом.
Когда мама уходила по делам, я часто открывала запретный рояль, снимала тонкое сукно и трогала твердые, цвета слоновой кости клавиши. Они отзывались гулко и тоскливо.
Потом приехали грузчики, немного пьяные и разбитные, подхватили рояль и унесли его куда-то. В новый дом отца. Но где был этот дом – я не знала.
Пустой угол занял обеденный стол. Мать постелила на него небрежно выглаженную скатерть, полюбовалась, сложив руки под грудью:
Вечерами мать с подругой, тетей Ниной, сидели на кухне, курили и обсуждали развод.
– Какой подлец! Какой подлец! – восклицала мать. – Я же только хотела его попугать, а он и в самом деле ушел!
– Плюнь, – утешала тетя Нина. – Куда он денется? Приползет еще. Только не будь дурой, не пускай. Дверь перед мордой захлопни. Будет знать, как уходить…
– А если не вернется? – пугалась мать. – Кому я нужна? О, Господи, дура, дура, зачем я рожала! Кто возьмет женщину с довеском?!
Довесок, то есть я, сидел в эти минуты на полу ванной комнаты, открыв дверь, чтобы лучше слышать кухонный разговор, и выковыривал глаза медвежонку. Он страдал глазной болезнью, я должна была вылечить его, но для начала требовалось медвежонка ослепить. Еще у меня были две куклы, которым я проводила операции, взрезая резиновые животы украденным с кухни тесаком для мяса. Мать как-то обнаружила мою скромную больницу и была потрясена детской жестокостью:
– Боже! Это же не ребенок… это же… это же…
Мне кажется сейчас, что мои странные игры были вызваны не жестокостью, а некоторым недостатком воображения. Я не могла играть понарошку. Для меня также не существовало сказок, куличиков из песка и Деда Мороза. Я играла «по-настоящему».
Был случай, когда я стащила у тети Нины, подрабатывавшей уколами, шприц, чтобы лечить кукол. Пропажа обнаружилась сразу, я даже не успела погнуть иголку. Впервые в жизни меня жестоко выпороли влажным полотенцем, скрученным жгутом.
– Воровка! Воровка! – кричала мать.
Она нарочно кричала громко, чтобы я знала – соседи все слышат. Наверное, с того времени во мне поселился страх – не страх быть уличенной, а страх позора и страх стыда. И, наверное, тогда же я поняла, что лучшая защита – это нападение. Но я была еще мала, чтобы на кого-то нападать.
Вскоре в доме появился дядя Игорь: большой, вальяжный, холеный. Ладони у него были почему-то всегда влажными, и я брезговала брать из его рук конфеты.
И мать, которая недавно кляла отца за погубленную молодость, переменилась: громко ненатурально смеялась, надевала самые яркие платья, щедро душилась. Она хотела быть непременно счастливой. Назло отцу.
В первый класс меня вели за руки мать и дядя Игорь. Я искала глазами в толпе отца и не находила его. А он был. Прятался за деревом, потому что мать категорически запретила ему видеться со мной.
– Я начала жизнь с чистого листа, не мешай мне!
И отец не мешал. Он был очень деликатным человеком.
Дядя Игорь увез нас в другой город. Пошел на повышение, и решил забрать нас с собой. Вернее, он хотел забрать с собой только мать, но меня некому было оставить – только отцу. А мама этого не хотела. И меня забрали.
Дядя Игорь был красив. Сейчас мне вспоминается его тяжелое чисто выбритое лицо, очень мужественное, прямой нос с изящным вырезом ноздрей, крупные темные от тока крови губы, которыми он касался щеки моей матери.
Дядя Игорь ходил по нашей квартирке хозяином. Он пользовался забытым отцом кремом для бритья и не чувствовал в том никакого неудобства.
Каждое утро, когда мать будила меня в детский сад, дядя Игорь уже сидел за кухонным столом и завтракал. Я видела его тщательно пережевывавшие пищу челюсти, и мне становилось страшно, будто я воочию увидела людоеда из сказки.
Со мной дядя Игорь разговаривал приторным фальшивым голосом и присюсюкивал:
– Ну, моя масенькая деточка, как мы сегодня себя сюствуем?
Я отмалчивалась, только смотрела на него зло, исподлобья.
Я слышала, как он жаловался моей матери:
– Мне кажется, она вот-вот набросится на меня и глотку перегрызет!
Однажды терпение мое иссякло, и на традиционный утренний вопрос я ответила, глядя в зеленоватые, будто заплесневевшие глаза отчима:
– Вот отец вернется, он тебе всю морду в кровь разобьет!
Дядя Игорь булькнул, лицо его пошло красными пятнами, пальцы сжались в кулаки:
– Ах ты, тварь неблагодарная! Наталья, Наталья, ты слышала, что провыл твой щенок?
Меня снова пороли. На этот раз дядя Игорь, собственноручно, по-мужски, ремнем.
После порки меня отправили в свою комнату, заявив, что покуда я не попрошу прощения, меня из нее не выпустят.
Вечер я провела лежа на кровати, рыдая в голос, не жалея связок.
Мать сновала по коридору, не смея открыть дверь в комнату, не смея пожалеть меня. За стенкой подчеркнуто громко работал купленный на днях цветной телевизор. Дядя Игорь смотрел какую-то передачу.
Мне помнится, как в тот вечер я мечтала, что в квартиру вдруг войдет отец, такой сильный, такой смелый и вышвырнет самозванца вон. Я представляла это так отчетливо, что стала рыдать тише, боясь пропустить звука открывающей двери.
Но время шло, отец не спешил на помощь, и в усталом ожидании я, наконец, уснула. Ночь прошла беспокойно, первое в жизни разочарование не оставляло меня в покое даже во сне. Меня предали. Меня не спасли.
Наверное, именно тогда я поняла, что отец уже не вернется. Никогда.
Время шло. И с каждым днем проступало все отчетливее: второй брак моей матери не сложился. Скоро в доме стала биться посуда, по утрам на кухне шли горячие перебранки. Дядя Игорь укорял мать в легкомыслии, безответственности, лени, в неумении вести домашнее хозяйство. Она и в самом деле была плохой хозяйкой.
Поймав журавля, мать решила, что это навсегда. А журавль однажды захлопал крыльями и улетел в родные края. Его позвала первая жена, и вторая оказалась «ошибкой». Тем более там подрастал родной сын, а тут – чужая дочь.
И мы остались одни.
Вначале мать бодрилась. Она почему-то была уверена, что ей достаточно только набрать отцовский номер телефона, и бывший муж, услышав ее голос, все забудет и простит.
Но мама опоздала. На другом конце провода ответила женщина. Отец не стал тратить годы в ожидании того, что мать остепенится. Он нашел свою половинку и стал счастливым. А мать – окончательно несчастной.
Несколько месяцев шла битва за квартиру. Дядя Игорь искал варианты размена, мать валялась у него в ногах, умоляя оставить квартиру ей, как когда-то сделал отец. Но размен состоялся, мы переехали в однокомнатную квартиру, и мать отселила меня на кухню. Кушетку мою продали, взамен купили раскладушку. Квартира была голой. Уехав, дядя Игорь забрал с собой даже разделочные доски.
Я помню тяжелые мучительные слезы матери по ночам. Я слышала, как она скрипела зубами и грызла подушку в бессильной злобе на весь мир и на свою непутевую жизнь. Сердце мое сжималось в крохотный болевой комок. Но чем я могла помочь матери?
Трудно вспомнить, в какой момент она начала выпивать. Но происходило это все чаще и чаще. В нашей квартирке стали появляться незнакомые мужчины. Мать отправляла меня гулять, и я шаталась до темноты по двору.
Росла я полной оторвой. Подружек у меня не было (ни одна нормальная мать не позволяла своей дочке дружить со мной), зато друзей – сколько угодно. Я легко перенимала пацанячьи привычки, выучилась смолить бычки, харкать сквозь щель в передних зубах, ходить в развалку, и жестоко драться.
Дома меня никто не ждал. Иногда мать спохватывалась, что меня нужно как-то воспитывать, но единственным методом была только порка, но справиться со мной уже было сложнее – я подросла и стала сопротивляться. Всякий раз я вырывалась из рук матери, пробовала кусаться и при первой же возможности сбегала на улицу.
Еще помню сильное – до головокружения – чувство голода. Дома с едой было туго. Мать нигде не задерживалась дольше месяца, до первой получки. Потом уходила в запой, и ее выкидывали на улицу. Она уже не была красивой, напротив – сильно смахивала на ведьму, и я даже врала друзьям, что мать может наводить порчу. Мальчишки не верили, но на всякий случай опасались.
В доме периодически появлялся участковый. Проводил с матерью воспитательные беседы, укорял, увещевал, пугал, что ее лишат родительских прав. Мать затихала на время, а потом все возвращалось на круги своя.
Соседи, возмущенные моими мальчишескими выходками, сначала пробовали жаловаться матери, а потом махнули рукой. Все, кроме одной – бабы Нюси. Я до жути боялась этой нестарой еще женщины, сухой, как сучок на дереве, но крепкой, с грозным и властным взглядом. Однажды она подловила меня с бычком в зубах, ухватила за ухо неожиданно сильными пальцами и стала выворачивать его так, что я взвыла от боли:
– Это кто ж тебя к такой гадости приучил? Еще раз увижу – не то сделаю!
Я отомстила ей, налив на половик перед дверью валерьянки…
Кто бы мог подумать, что вскоре именно баба Нюся станет для меня дорогим и близким человеком!
На дворе тогда стояли теплые апрельские денечки, лужи высохли, и кое-где проклюнулась первая трава. В классе обсуждали достойных стать пионерами. Разумеется, я тоже хотела быть пионером – ходить с красным галстуком, петь песни, вскидывать руку в салюте. Ну, конечно, я подозревала, что красного галстука мне не видать, как своих ушей, с «неудами» по поведению и прогулами. Но какая-то робкая надежда все же теплилась.
– Ксения Яснова! – назвала наконец меня классная, и я, покраснев от волнения, встала.
Классная окинула меня взглядом с головы до пят, сложила лицо в скорбную гримасу:
– Конечно, тут и говорить нечего. Но, думаю, ребята, что если мы прямо в лицо объясним Ксении недостатки ее поведения, может быть, она задумается и попробует все же исправиться.
Первой руку вскинула командир нашего октябрятского отряда Леночка Панова. Как положено, круглая отличница, мама – парторг какого-то заводского цеха. Где-то она теперь, эта Леночка с тугими косичками?
– Я считаю, что Ксения Яснова недостойна звания пионера, – зачастила Леночка. Наверное, свою речь заранее приготовила. – Своим неудовлетворительным поведением и двойками она тянет наш класс на последнее место. Ведет себя как мальчик, хотя она девочка! На прошлой неделе ее видели с сигаретой возле школы. А ведь мы на прошлом классном часе говорили о вреде табакокурения, и если бы Яснова пришла на этот классный час, то бросила бы пагубную привычку. Но ее не было. И вчера она прогуляла математику. А два дня назад она надерзила нашему классному руководителю. Ребята, давайте проголосуем, кто против того, чтобы Яснова стала пионеркой?
Я, с трудом сдерживая слезы:
– Раньше надо было думать, – категорично заявила Леночка.
– Какая она пионерка? У нее мать алкоголичка!
Это был Костя Названов. Помню, как одним прыжком со своего места я дотянулась до Костиного лица и вцепилась в него ногтями. Девчонки подняли визг, перепуганная классная бросилась разнимать нас.
В итоге вместо пионеров я оказалась в директорском кабинете, где Матвей Иванович, сложив по-бабьи крупные пухлые руки на животе, сказал классной:
– Пора ставить вопрос об исключении Ясновой из школы. Ксения, чтобы завтра твоя мать была здесь!
После директорского кабинета я устроила засаду на Названова. Подкараулила его в пустом проулке, набросилась с кошачьей яростью, била стареньким портфелем по голове, пыталась укусить. Дрались мы молча, только тяжело сопели. Противник превосходи меня силой, но я была злее и в уличных драках опытнее. Мне удалось дотянуться до носа противника, всадить в него кулак и потом, уже ослепленного болью, пинать ногами до изнеможения. В конце концов, окровавленный Костя отступил. Отомщенная, я поковыляла домой с рассаженными об асфальт коленками, в разорванных колготках и слезами на глазах. Я могла бы убить его, но что это могло изменить? Моя мать, моя бедная несчастная мама – алкоголичка. Мой отец, мой горячо любимый отец, нас предал… Я беззвучно плакала.
Домой не пошла. Забралась в голые еще кусты сирени, росшие под окном первого этажа, и зарыдала в голос, отчаявшаяся и раздавленная.
Вот тут до меня и добралась баба Нюся.
– Чего рыдаешь, кошка драная?
– А не пошли бы вы…, – жалобно ответила я.
– Ишь, как со взрослыми разговаривает…
Тут я прибавила слез: только это вреднющей тетки мне и не хватало!
– Ну-ну, полно орать на весь двор, – вдруг смягчилась баба Нюся. – Случилось что?
А такое… Ну-ка, пойдем.
Властной рукой баба Нюся вытащила меня из кустов и повела домой. Сначала заставила умыться и даже с мылом, проверила, чистые ли ногти. Потом пустила на кухню пить чай.
– Ну, что за беда, выкладывай…
Вместо чая я опять расплакалась и рассказала, что натворила за последний день. Баба Нюся слушала и только головой качала. Глаза ее становились все строже и строже.
– Ладно, хватит на сегодня. Подумать мне надо. Пока буду думать, иди-ка ты в ванную, помойся хоть по-человечески, а то воняешь, будто с помойки достали.
В ванной я просидела добрый час. Было горячо. Я как-то быстро разомлела, успокоилась и почти задремала. Потом баба Нюся заставила меня стирать свои вещи, и я послушно неумелыми руками елозила трусами и колготками по ребристой стиральной доске. После ванной, закутанная в выгоревший от времени ситцевый халат, с разрисованными зеленкой коленками, я хлебала золотистый от жира борщ из огромной тарелки. Я почти забыла, что это такое – домашний очаг, и была готова на любые подвиги, лишь бы меня не гнали.
Баба Нюся тем временем ходила к моей матери. О чем они говорили, не знаю, но соседка вернулась в раздражении:
– Экая! Ребенок пропадает, а ей хоть бы хны…
На улицу мне идти был не в чем: моя одежда сохла на батарее. Баба Нюся усадила меня за уроки тут же на кухне, сама пристроилась рядом с вязанием в руках.
– Вслух все читай и решай! – предупредила она.
Возилась с заданиями я долго. Отвлекалась за окно, где гоняли хромоногую собаку мои друзья-приятели. Баба Нюся тогда отрывалась от спиц и смотрела на меня поверх очков:
– Не дури, девка. Учись.
Вечером, в сумерках, жарили картошку с луком, морковкой и чесноком. Баба Нюся оставила меня ночевать, уложив на полу. Заснуть я никак не могла, крутилась на новом месте.
– Чего не спишь? – спросила, наконец, соседка.
– А что мне завтра делать?
– Ничего. Придешь в школу, как ни в чем не бывало, будешь тише воды и ниже травы. Задуришь – ко мне больше не подходи. Обижусь.
Обижать бабу Нюсю мне было страшно. Успокоенная, я уснула под мерное тиканье будильника над моей головой.
Утром баба Нюся пошла со мной в школу. Перед директорским кабинетом сморщила лицо в улыбке: мол, ничего не бойся. И вошла.
– Где мать? – спросила меня классная.
– Бабушка вместо нее пришла, – вяло ответила я.
Названов сидел на своем месте с разрисованной йодом щекой и шишкой на лбу. Исподтишка показал мне кулак. Я в ответ высунула язык.
В животе у меня что-то ныло от тревоги. Как там баба Нюся? Чем она мне поможет? Вот сейчас откроется дверь, и меня вместе с портфелем выкинут на улицу. Стыд-то какой – при всех. Будут в меня пальцем тыкать и смеяться за спиной.
Но уроки шли, а меня никто не выкидывал. Классная после первого же урока быстро зацокала к директорскому кабинету, вернулась оттуда взвинченная и вызвала меня к доске. Если бы не упорство бабы Нюси, с которым она допрашивала меня на предмет прочитанного куска из «Тимура и его команды», я получила бы жирную пару. Но классной было жалко ставить мне пятерку. Да и четверку она выводила мне нехотя, с кислой миной. И все же победа осталась за мной.
Ликующая, после школы я побежала первым делом к соседке.
– Явилась – не запылилась? Ну, садись, ешь.
Уминала я вчерашний борщ за обе щеки, попутно рассказывала о своей четверке, первой за очень долгое время. Баба Нюся слушала внимательно, кивала головой. О чем она говорила директору – умолчала. Сказала только:
– Я за тебя добрым именем своим поручилась. Смотри, не подведи.
Уроки я снова делала у бабуни. Ночевала дома.
С тех пор жизнь поделилась на две части. Каждый день, если баба Нюся не дежурила в больнице, я торчала у нее в гостях. К матери ходила только ночевать. До окончательного переезда к бабуне оставались считанные недели.
Как-то летом в разгар каникул бабуня на неделю уехала к подруге в соседний городок. В ее отсутствие я моталась по улицам. Мать по-прежнему пила. Было голодно.
Однажды, проснувшись рано утром с сосущей пустотой в желудке, я по давнишней привычке полезла по карманам материной куртки в поисках мелочевки. За этим занятием меня и застали. Впервые. Мать еще не протрезвела после ночной пьянки, покачивалась, но за волосы схватила меня крепко и с размаху стукнула головой о стену:
Я начала вырываться, но мать перехватывала меня за руки, плечи, лицо. Обломанные ногти ее оставляли красные кровоточащие царапины. Я отбивалась молча, но еще пару раз меня все-таки приложили головой к стенке.
И вот тут в квартиру, пинком открыв дверь, вошла так вовремя приехавшая баба Нюся. Она каким-то чудом отцепила от меня мать, отшвырнула в угол, пригрозила:
– Ты чего ребенка мучишь?! Сейчас милицию вызову! Закатают на пятнадцать суток – мало не покажется!
Мать как-то сразу обессилела, перестала размахивать руками и только тяжело дышала.
– Пошли, – баба Нюся ухватила меня за руку и потащила к себе.
Вечером она забрала к себе мою старенькую раскладушку, побрезговав подушкой и одеялом:
– Еще вши заведутся…
Счастью моему не было придела.
Я уже привыкла к ее чистой комнате с ткаными половичками, старыми часами с кукушкой и тяжелыми гирьками, лакированным комодом, на котором стояла бумажная иконка Богородицы и всегда лежала пара просфор. Бабуня была верующая.
– Это все война, – вздыхала бабуня. – Только чудо могло меня спасти…
В девятилетнем возрасте она пережила ленинградскую блокаду. Где-то там, на питерских кладбищах, покоятся ее мать и старшие сестры.
– Вот ты жалуешься – мать пьет, – иногда говорила бабуня. – Думаешь, это горе. Нет, Ксюша, это не горе. Горе – когда близких хоронишь. А я даже и не хоронила. Мать ушла – не вернулась. Сестры пошли карточки отоваривать – не вернулись. И я бы не выжила, если б меня на улице случайно труповозка не подобрала. Думали, мертвая. А я очнулась. И дядька-шофер меня пожалел – отвез в приют, а оттуда на Большую землю. А мог бы бросить на улице – кто я ему? И чего я в блокаду насмотрелась – тебе лучше и не знать. Хотела бы забыть, а ночами все просыпаюсь от голода. Как тут забудешь?
Работала бабуня постовой медсестрой в реанимации: сутки через двое. Работу свою любила, за каждого больного переживала. Знаю, что потихоньку от врачей она поила больных крещенской водой и смазывала освященным маслицем. И многие безнадежные, в самом деле, возвращались к жизни. Над бабуниными «суевериями» я сначала посмеивалась. Потом шуточки мои сошли на «нет».
– Ерунда, думаешь? – сердилась бабуня. – Многие так думают, пока не придет время умирать. И вот тут людей такой страх охватывает, что готовы и креститься, и причаститься, да только кто к ним попа в реанимацию пустит? Над иным плачу: прибери же его, Господи, не мучай. А другой вздохнет, как ребенок, – и полетела душа прямо в рай. Чем дольше живу, тем сильнее верю: нет, смерть – это не конец… А если не конец, то здесь жить надо по-человечески, по заповедям.
Бабу Нюсю уважали соседи и знакомые. За помощью к ней часто обращались даже незнакомые люди: сделать укол, свести с хорошим врачом, посоветовать насчет лекарств, подежурить у постели больного, обмыть покойника.
Отказа никому не было. И денег за свой труд бабуня не брала:
– Какая же это помощь – за деньги?
– Зачем ты им помогаешь? – иногда возмущалась я. – Вон пришла коза, она за твоей спиной гадости о тебе рассказывает, небылицы плетет.
– Тебе-то что? Не с тебя спрос, не с меня – с нее, – отмахивалась бабуня. – Чтобы с кого-то спрашивать, надо иметь на это право. А у тебя какое право? Вон, полная раковина грязной посуды. Помой, а потом суди.
Иногда мы ссорились, и я грозилась вернуться к матери.
Ступай, – махала рукой бабуня. – Ступай! Только обратно не пущу.
Угрозы ее, однако, меня не пугали, ибо бабуня, несмотря на внешнюю суровость, была человеком добрым. Добрым – а не добреньким.
– Потакать – человеку вредить, – говорила бабуня. – Различать надо, где пожалеть, а где накричать, чтобы толк был.
Свободные вечера бабуня тратила на вязание, реже – на шитье. Увлекшись рукоделием, под мерный стук железных спиц обычно она начинала мурлыкать себе под нос какую-нибудь песню.
– Погромче, бабунь, – просила я из-за учебника.
– Что я тебе, Алла Пугачева? – хмыкала бабуня. Но через несколько минут с удовольствием запевала – сначала тихонько, потом, увлекшись, в голос:
Клее-он ты мой опа-а-авший,
Что стоишь, согну-у-увшись,
Песен бабуня знала так много, что почти никогда не повторялась, и были они или народные, или послевоенные, редко – романсы.
Вечером, когда я укладывалась спать, наступало особенное время – бабуня вычитывала положенное правило, вполголоса, нараспев, с ударением на самые важные, по ее мнению, слова. Это было ее общение с Всевышним – строгое, без фамильярности.
Иное – с Богородицей. Ей, закрыв молитвослов, бабуня оставляла все жалобы, просьбы, волнения. Обстоятельно, как зримой собеседнице, она рассказывала все подробности минувшего дня, все дурное и хорошее.
– Это ничего, что он пьющий, – объясняла бабуня Пресвятой о пациенте, который едва не отправился на тот свет. – Пьянство, конечно, грех. Но его грех от слабости, а не от ума, не от гордыни. Жизнь тяжелая, никто не любит, вот он и пьет. Пьет – а ведь тоже тварь Божья. Ты уж походатайствуй перед Сыном, чтобы выздоровел, чтобы покаяться успел. Ты видела? Он, когда очнулся, заплакал. Умирать боится. Рано ему. Не готов. Умоли.
Просила о моей матери:
– Исцели души ея болезнь…
– Управь, ими же веси судьбами…
«Ими же веси» звучало таинственно и сладко. Иной раз не засыпала до тех пор, пока бабуня не прочитывала эту молитву.
Я порой завидовала бабуне, для которой на свете существуют какой-то Бог, строгий, мудрый и справедливый, и какая-то Пресвятая Дева, милосердная и ласковая. Бабуне всегда было к кому обратиться за советом и утешением. О, если бы я могла поверить в них, несуществующих на самом деле!
– Бабуня, а что это такое – «ими же веси судьбами»? – спросила я как-то, измученная догадками.
– Ой, Ксюша, если это с церковнославянского перевести – на три страницы мелкого текста. И все примерно.
– Ну, объясни, как можешь!
– Скажем, судьбами других людей.
– Ну! Объяснила… Нет, ты поподробней. Я пойму, я не маленькая…
Бабуня долго молчала, жевала губами, вздыхала.
– Я по себе скажу, – заговорила, наконец. – Я, Ксюша, долго мучилась: почему из всей семьи одна в живых осталась. Должна была помереть. От голода или от холода. Или съели бы меня. Или бы жажда с ума свела. Я ведь тогда на улицу умирать пошла … Сил не было. Думала: замерзну, как усну, не больно, не самоубийство, греха не будет. А вышло как? Подобрали… Почему тот водитель возле меня остановился? Почему не бросил? Выходит, чужая судьба меня спасла. Ими же веси – Господь управил. Думала по молодости, что живу, чтобы род продолжить, чтобы детки – да все на мать мою похожи. Промахнулась. Ни детей, ни мужа. Потом встретила как-то батюшку, умный был человек, упокой его душу, Господи. Говорит: ступай в медсестры. Сама спаслась – других спасть будешь. Будешь их «ими же веси». А сейчас, выходит, из-за тебя жить осталась. Чтобы тебя приютить. Выходит, я твое «ими же веси судьбами», а ты – мое… У Бога все судьбы – как ниточки, меж собой узелками завязаны. С одними людьми – на час, с другими – до смерти. Никого случайного. Никого. Одна судьбу другую спасает… Вырастешь – поймешь.
– Я поняла, поняла…
– Спи давай, говорунья, нашла себе богослова…
И только тиканье часов, ровное, как пульс.
Так и жили: старая да малая.
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Пришла пора повзрослеть и нюхнуть взрослой жизни. Мне исполнилось двенадцать лет…
…Мартовским утром я нашла мать на полу комнаты с кровоподтеком на виске. Возможно, ее убил кто-то из собутыльников, возможно, это был несчастный случай.
Помню, как я потрогала маму за ногу. Нога была холодной. Икнув от страха, я попятилась из комнаты в коридор, оттуда на лестничную клетку, боясь повернуться спиной к мертвой матери, позвонила в дверь бабуни, едва нашарив нетвердой рукой кнопку звонка.
– Ксюша? Что случилось? – бабуня испугалась выражения моего лица.
Я что-то промычала, пытаясь отлепить пересохший язык от гортани. Попробовала выговорить «мама умерла», но это у меня не получилось. Перед глазами заплясали разноцветные круги, лицо бабуни поплыло куда-то, и я рухнула на четвереньки…
…Отец приехал на другой день после похорон матери. Я сидела на кухне бабы Нюси, когда в дверь позвонили, и на пороге квартиры появился мой отец, с поредевшими висками, осунувшийся, чужой. В руках держал чемодан, тот самый, с которым ушел от нас.
– Здравствуй, Ксюша, – волнуясь, сказал отец.
Ночевали мы у бабы Нюси.
Отец зашел в нашу квартиру, спросил, что из вещей я бы хотела взять. Но брать было нечего, кроме моих документов и старых фотографий.
Вечером отец с бабой Нюсей о чем-то очень долго разговаривали на кухне. Все, что я услышала под кухонной дверью, относилось ко мне.
– Трудно отдавать ее вам, Михаил Владимирович. У вас жена молодая, своих нарожаете, вся любовь им достанется. А кто ее любить будет?
– Таня – хороший человек, пригреет и приласкает дочь. Я думаю, поладят…
– А если нет? Она такого лиха хлебнула – мало не покажется. Ей любовь нужна. Настоящая любовь, материнская. Мачеха – она и есть мачеха… Да и вы хороши, бросили девчонку на произвол судьбы. Хоть бы раз поинтересовались как она, что с ней, жива ли, сыта ли?
– Да ведь Наташа против была. Вон куда забралась, лишь бы я дочь не видел.
Отец тяжело вздохнул. Долго думал. Бабуня не спускала с его лица пристального взгляда.
– Виноват я перед дочерью, ваша правда. Слаб. Надо было на своем настоять, а я не смог. Но еще можно все исправить… Знаете, как говорят: в жизни непоправима только смерть…
– Только смерть? – покачала головой бабуня. – Ну, исправьте дочери детство! А? Не выйдет ведь… Всего у нее в душе уже намешано, самой с этим не справиться. А девочка-то хорошая, со светлой головой. Сердечко доброе, хоть норовит, как кошка когти выпустить. И нельзя ее винить. Не ее вина. При других обстоятельствах она бы светилась, да какой же тут свет, когда никому не нужна? Вы поймите, она ведь обиду на вас таит, Михаил Владимирович. И на вас, и на жену вашу. Долго будете к ней ключ подбирать. А если сил не хватит?
– Хватит, – твердо сказал отец.
Мои родители развелись, едва я отметила шестой день рождения.
В памяти остался отцовский колючий джемпер, к которому я прижималась мокрой от слез щекой:
- Не забывай меня, Ксюша…
Легкая, почти невесомая ладонь скользила по моим волосам. В коридоре стоял чемодан с вещами.
Еще из ранних воспоминаний у меня остались бурные сцены, которые устраивала мама отцу. Она рыдала на всю квартиру, заламывала трагически руки, падала в обморок. Не хватало только пыльных театральных кулис и аплодисментов зрителей – ее актерский дар предназначался только домашним. В такие минуты отец уходил на кухню и молча сидел там, опустив голову.
Однажды он сбежал от скандала, хлопнув дверью так, что зазвенела люстра в прихожей. Мать бросилась следом. Она торопливо шагала за отцом по улице в домашних тапочках и оскорбляла его. Отец не оборачивался, делая вид, что грубости, летящие в спину, не относятся к нему. Прохожие останавливались и удивленно смотрели на родителей. Мать сняла с ногу правую тапку и запустила в отца. Тот не остановился. Тогда она бросила левую и попала ему в затылок. Отец замер, осознавая, что на всей земле нет уголка, где бы он мог укрыться, и, ссутулившись, направился домой. Мать победила.
Я тоже принимала посильное участие в семейных дрязгах. Обычно я садилась на пол, стучала по нему кулаками и кричала громко, на одной ноте:
- А-а-а-а!
Мать вспыхивала, на щеках проступали красные пятна:
- Замолчи! Замолчи!
- Наташа, хоть дочь пощади, - взмаливался отец.
- Хватит выть! – это уже мне. – Рот зашью!
Я умолкала и забиралась под рояль в большой комнате. Мы сидели там с рыжим плюшевым медвежонком и тихо ссорились. Он не слушался меня, капризничал и пищал.
- Замолчи! – говорила я игрушке. – Хватит выть, рот зашью.
Медвежонок умолкал и испуганно таращил на меня пластмассовые глаза.
В доме, сколько себя помню, была очень напряженная атмосфера. Отец и мать сидели по разным комнатам, но даже через стену каждый чувствовал неприязнь другого.
Потом и во все настало время, когда родители уже не могли находиться в одной квартире. Едва отец приходил с работы, мать тут же собиралась к подруге.
Когда дверь захлопывалась, отец открывал форточки в доме, словно хотел выветривать неразразившуюся грозу, и подмигивал мне:
- Будем играть?
Чаще всего мы просто устраивали возню на полу. Отец щекотал мне пятки, я дрыгала ногами, уворачивалась и хохотала так, что было слышно на лестничной клетке.
На ужин отец готовил картофельное пюре и варил сосиски. Для меня он выкладывал на тарелке забавные картофельные рожицы, кружки сосиски были глазами и носом, томатной пастой отец рисовал рот и брови. Рожица улыбалась мне, я улыбалась рожице.
Но иногда отец не хотел со мной играть. Он ходил по комнате, обхватив локти, как будто его знобило. Он думал о своем, взрослом, и я не смела мешать. Мы с медвежонком забирались в домик под роялем и грустили.
Наконец отец садился к инструменту. Мне были видны его руки, покойно сложенные на коленях в ожидании музыки. Потом руки взлетали, и в следующую секунду рояль над моей головой гудел всей утробой.
То, что играл отец, было трудно назвать музыкой в привычном понимании этого слова. Это был ритм: жесткий, гипнотический, напряженный, будто древние скальные породы сдвинулись со своих мест, столкнулись, и мир залила кипящая лава. Все вокруг меня приходило в движение. Я зажимала уши ладонями, чтобы не оглохнуть. Отец пугал меня своей игрой. Трудно было ожидать от худого, сутулившего человека такой мощи, напора, энергии. Когда отец вытаскивал меня из-под рояля и на руках нес в постель, я всматривалась в его глаза, пытаясь разглядеть в них человека, способного играть такую сильную и страшную музыку.
Отец мой был пианистом, и, как говорили гости нашего дома, весьма талантливым. Но что-то не сложилось в его творческой карьере сразу после окончания консерватории. Я слышал о некоей «комсомольской истории», которая «погубила будущее» отца. Наверное, в ней и крылась разгадка охлаждения чувств со стороны матери: хотела быть женой перспективного пианиста, стала, по ее словам, женой изгоя.
Работал в ту пору отец, несмотря на блестящее образование, преподавателем в музыкальной школе. Впрочем, на судьбу не жаловался и себя не жалел.
Он пробовал учить меня музыке, разглядев какие-то способности, но мать быстро оборвала наши занятия.
- Не морочь ребенку голову, - выговаривала она. – На жизнь музыкой не заработаешь.
Без отца дом для меня стал пустым, как подворотня старого дома, где гуляют беспризорные сквозняки. Онемевший стоял в зале маленький, кабинетный рояль, укрытый льняным чехлом.
Когда мама уходила по делам, я часто открывала запретный рояль, снимала тонкое сукно и трогала твердые, цвета слоновой кости клавиши. Они отзывались гулко и тоскливо.
Потом приехали грузчики, немного пьяные и разбитные, подхватили рояль и унесли его куда-то. В новый дом отца. Но где был этот дом – я не знала.
Пустой угол занял обеденный стол. Мать постелила на него небрежно выглаженную скатерть, полюбовалась, сложив руки под грудью:
- Сколько места!
Вечерами мать с подругой, тетей Ниной, сидели на кухне, курили и обсуждали развод.
- Какой подлец! Какой подлец! – восклицала мать. – Я же только хотела его попугать, а он и в самом деле ушел!
- Плюнь, - утешала тетя Нина. – Куда он денется? Приползет еще. Только не будь дурой, не пускай. Дверь перед мордой захлопни. Будет знать, как уходить…
- А если не вернется? – пугалась мать. – Кому я нужна? О, Господи, дура, дура, зачем я рожала! Кто возьмет женщину с довеском?!
Довесок, то есть я, сидел в эти минуты на полу ванной комнаты, открыв дверь, чтобы лучше слышать кухонный разговор, и выковыривал глаза медвежонку. Он страдал глазной болезнью, я должна была вылечить его, но для начала требовалось медвежонка ослепить. Еще у меня были две куклы, которым я проводила операции, взрезая резиновые животы украденным с кухни тесаком для мяса. Мать как-то обнаружила мою скромную больницу и была потрясена детской жестокостью:
- Боже! Это же не ребенок… это же… это же…
Мне кажется сейчас, что мои странные игры были вызваны не жестокостью, а некоторым недостатком воображения. Я не могла играть понарошку. Для меня также не существовало сказок, куличиков из песка и Деда Мороза. Я играла «по-настоящему».
Был случай, когда я стащила у тети Нины, подрабатывавшей уколами, шприц, чтобы лечить кукол. Пропажа обнаружилась сразу, я даже не успела погнуть иголку. Впервые в жизни меня жестоко выпороли влажным полотенцем, скрученным жгутом.
- Воровка! Воровка! – кричала мать.
Она нарочно кричала громко, чтобы я знала – соседи все слышат. Наверное, с того времени во мне поселился страх - не страх быть уличенной, а страх позора и страх стыда. И, наверное, тогда же я поняла, что лучшая защита – это нападение. Но я была еще мала, чтобы на кого-то нападать.
Вскоре в доме появился дядя Игорь: большой, вальяжный, холеный. Ладони у него были почему-то всегда влажными, и я брезговала брать из его рук конфеты.
И мать, которая недавно кляла отца за погубленную молодость, переменилась: громко ненатурально смеялась, надевала самые яркие платья, щедро душилась. Она хотела быть непременно счастливой. Назло отцу.
В первый класс меня вели за руки мать и дядя Игорь. Я искала глазами в толпе отца и не находила его. А он был. Прятался за деревом, потому что мать категорически запретила ему видеться со мной.
- Я начала жизнь с чистого листа, не мешай мне!
И отец не мешал. Он был очень деликатным человеком.
Дядя Игорь увез нас в другой город. Пошел на повышение, и решил забрать нас с собой. Вернее, он хотел забрать с собой только мать, но меня некому было оставить – только отцу. А мама этого не хотела. И меня забрали.
Дядя Игорь был красив. Сейчас мне вспоминается его тяжелое чисто выбритое лицо, очень мужественное, прямой нос с изящным вырезом ноздрей, крупные темные от тока крови губы, которыми он касался щеки моей матери.
Дядя Игорь ходил по нашей квартирке хозяином. Он пользовался забытым отцом кремом для бритья и не чувствовал в том никакого неудобства.
Каждое утро, когда мать будила меня в детский сад, дядя Игорь уже сидел за кухонным столом и завтракал. Я видела его тщательно пережевывавшие пищу челюсти, и мне становилось страшно, будто я воочию увидела людоеда из сказки.
Со мной дядя Игорь разговаривал приторным фальшивым голосом и присюсюкивал:
- Ну, моя масенькая деточка, как мы сегодня себя сюствуем?
Я отмалчивалась, только смотрела на него зло, исподлобья.
Я слышала, как он жаловался моей матери:
- Мне кажется, она вот-вот набросится на меня и глотку перегрызет!
Однажды терпение мое иссякло, и на традиционный утренний вопрос я ответила, глядя в зеленоватые, будто заплесневевшие глаза отчима:
- Вот отец вернется, он тебе всю морду в кровь разобьет!
Дядя Игорь булькнул, лицо его пошло красными пятнами, пальцы сжались в кулаки:
- Ах ты, тварь неблагодарная! Наталья, Наталья, ты слышала, что провыл твой щенок?
Меня снова пороли. На этот раз дядя Игорь, собственноручно, по-мужски, ремнем.
После порки меня отправили в свою комнату, заявив, что покуда я не попрошу прощения, меня из нее не выпустят.
Вечер я провела лежа на кровати, рыдая в голос, не жалея связок.
Мать сновала по коридору, не смея открыть дверь в комнату, не смея пожалеть меня. За стенкой подчеркнуто громко работал купленный на днях цветной телевизор. Дядя Игорь смотрел какую-то передачу.
Мне помнится, как в тот вечер я мечтала, что в квартиру вдруг войдет отец, такой сильный, такой смелый и вышвырнет самозванца вон. Я представляла это так отчетливо, что стала рыдать тише, боясь пропустить звука открывающей двери.
Но время шло, отец не спешил на помощь, и в усталом ожидании я, наконец, уснула. Ночь прошла беспокойно, первое в жизни разочарование не оставляло меня в покое даже во сне. Меня предали. Меня не спасли.
Наверное, именно тогда я поняла, что отец уже не вернется. Никогда.
Время шло. И с каждым днем проступало все отчетливее: второй брак моей матери не сложился. Скоро в доме стала биться посуда, по утрам на кухне шли горячие перебранки. Дядя Игорь укорял мать в легкомыслии, безответственности, лени, в неумении вести домашнее хозяйство. Она и в самом деле была плохой хозяйкой.
Поймав журавля, мать решила, что это навсегда. А журавль однажды захлопал крыльями и улетел в родные края. Его позвала первая жена, и вторая оказалась «ошибкой». Тем более там подрастал родной сын, а тут – чужая дочь.
И мы остались одни.
Вначале мать бодрилась. Она почему-то была уверена, что ей достаточно только набрать отцовский номер телефона, и бывший муж, услышав ее голос, все забудет и простит.
Но мама опоздала. На другом конце провода ответила женщина. Отец не стал тратить годы в ожидании того, что мать остепенится. Он нашел свою половинку и стал счастливым. А мать - окончательно несчастной.
Несколько месяцев шла битва за квартиру. Дядя Игорь искал варианты размена, мать валялась у него в ногах, умоляя оставить квартиру ей, как когда-то сделал отец. Но размен состоялся, мы переехали в однокомнатную квартиру, и мать отселила меня на кухню. Кушетку мою продали, взамен купили раскладушку. Квартира была голой. Уехав, дядя Игорь забрал с собой даже разделочные доски.
Я помню тяжелые мучительные слезы матери по ночам. Я слышала, как она скрипела зубами и грызла подушку в бессильной злобе на весь мир и на свою непутевую жизнь. Сердце мое сжималось в крохотный болевой комок. Но чем я могла помочь матери?
Трудно вспомнить, в какой момент она начала выпивать. Но происходило это все чаще и чаще. В нашей квартирке стали появляться незнакомые мужчины. Мать отправляла меня гулять, и я шаталась до темноты по двору.
Росла я полной оторвой. Подружек у меня не было (ни одна нормальная мать не позволяла своей дочке дружить со мной), зато друзей – сколько угодно. Я легко перенимала пацанячьи привычки, выучилась смолить бычки, харкать сквозь щель в передних зубах, ходить в развалку, и жестоко драться.
Дома меня никто не ждал. Иногда мать спохватывалась, что меня нужно как-то воспитывать, но единственным методом была только порка, но справиться со мной уже было сложнее – я подросла и стала сопротивляться. Всякий раз я вырывалась из рук матери, пробовала кусаться и при первой же возможности сбегала на улицу.
Еще помню сильное – до головокружения - чувство голода. Дома с едой было туго. Мать нигде не задерживалась дольше месяца, до первой получки. Потом уходила в запой, и ее выкидывали на улицу. Она уже не была красивой, напротив - сильно смахивала на ведьму, и я даже врала друзьям, что мать может наводить порчу. Мальчишки не верили, но на всякий случай опасались.
В доме периодически появлялся участковый. Проводил с матерью воспитательные беседы, укорял, увещевал, пугал, что ее лишат родительских прав. Мать затихала на время, а потом все возвращалось на круги своя.
Соседи, возмущенные моими мальчишескими выходками, сначала пробовали жаловаться матери, а потом махнули рукой. Все, кроме одной – бабы Нюси. Я до жути боялась этой нестарой еще женщины, сухой, как сучок на дереве, но крепкой, с грозным и властным взглядом. Однажды она подловила меня с бычком в зубах, ухватила за ухо неожиданно сильными пальцами и стала выворачивать его так, что я взвыла от боли:
- Это кто ж тебя к такой гадости приучил? Еще раз увижу – не то сделаю!
Я отомстила ей, налив на половик перед дверью валерьянки…
Кто бы мог подумать, что вскоре именно баба Нюся станет для меня дорогим и близким человеком!
На дворе тогда стояли теплые апрельские денечки, лужи высохли, и кое-где проклюнулась первая трава. В классе обсуждали достойных стать пионерами. Разумеется, я тоже хотела быть пионером – ходить с красным галстуком, петь песни, вскидывать руку в салюте. Ну, конечно, я подозревала, что красного галстука мне не видать, как своих ушей, с «неудами» по поведению и прогулами. Но какая-то робкая надежда все же теплилась.
- Ксения Яснова! – назвала наконец меня классная, и я, покраснев от волнения, встала.
Классная окинула меня взглядом с головы до пят, сложила лицо в скорбную гримасу:
- Конечно, тут и говорить нечего. Но, думаю, ребята, что если мы прямо в лицо объясним Ксении недостатки ее поведения, может быть, она задумается и попробует все же исправиться.
Первой руку вскинула командир нашего октябрятского отряда Леночка Панова. Как положено, круглая отличница, мама – парторг какого-то заводского цеха. Где-то она теперь, эта Леночка с тугими косичками?
- Я считаю, что Ксения Яснова недостойна звания пионера, - зачастила Леночка. Наверное, свою речь заранее приготовила. – Своим неудовлетворительным поведением и двойками она тянет наш класс на последнее место. Ведет себя как мальчик, хотя она девочка! На прошлой неделе ее видели с сигаретой возле школы. А ведь мы на прошлом классном часе говорили о вреде табакокурения, и если бы Яснова пришла на этот классный час, то бросила бы пагубную привычку. Но ее не было. И вчера она прогуляла математику. А два дня назад она надерзила нашему классному руководителю. Ребята, давайте проголосуем, кто против того, чтобы Яснова стала пионеркой?
Лес рук.
Я, с трудом сдерживая слезы:
- Я исправлюсь.
- Раньше надо было думать, - категорично заявила Леночка.
Голос с соседней парты:
- Какая она пионерка? У нее мать алкоголичка!
Это был Костя Названов. Помню, как одним прыжком со своего места я дотянулась до Костиного лица и вцепилась в него ногтями. Девчонки подняли визг, перепуганная классная бросилась разнимать нас.
В итоге вместо пионеров я оказалась в директорском кабинете, где Матвей Иванович, сложив по-бабьи крупные пухлые руки на животе, сказал классной:
- Пора ставить вопрос об исключении Ясновой из школы. Ксения, чтобы завтра твоя мать была здесь!
После директорского кабинета я устроила засаду на Названова. Подкараулила его в пустом проулке, набросилась с кошачьей яростью, била стареньким портфелем по голове, пыталась укусить. Дрались мы молча, только тяжело сопели. Противник превосходи меня силой, но я была злее и в уличных драках опытнее. Мне удалось дотянуться до носа противника, всадить в него кулак и потом, уже ослепленного болью, пинать ногами до изнеможения. В конце концов, окровавленный Костя отступил. Отомщенная, я поковыляла домой с рассаженными об асфальт коленками, в разорванных колготках и слезами на глазах. Я могла бы убить его, но что это могло изменить? Моя мать, моя бедная несчастная мама – алкоголичка. Мой отец, мой горячо любимый отец, нас предал… Я беззвучно плакала.
Домой не пошла. Забралась в голые еще кусты сирени, росшие под окном первого этажа, и зарыдала в голос, отчаявшаяся и раздавленная.
Вот тут до меня и добралась баба Нюся.
- Чего рыдаешь, кошка драная?
- А не пошли бы вы…, - жалобно ответила я.
- Ишь, как со взрослыми разговаривает…
Тут я прибавила слез: только это вреднющей тетки мне и не хватало!
- Ну-ну, полно орать на весь двор, - вдруг смягчилась баба Нюся. – Случилось что?
- Вам какое дело!
-А такое… Ну-ка, пойдем.
Властной рукой баба Нюся вытащила меня из кустов и повела домой. Сначала заставила умыться и даже с мылом, проверила, чистые ли ногти. Потом пустила на кухню пить чай.
- Ну, что за беда, выкладывай…
Вместо чая я опять расплакалась и рассказала, что натворила за последний день. Баба Нюся слушала и только головой качала. Глаза ее становились все строже и строже.
- Ладно, хватит на сегодня. Подумать мне надо. Пока буду думать, иди-ка ты в ванную, помойся хоть по-человечески, а то воняешь, будто с помойки достали.
В ванной я просидела добрый час. Было горячо. Я как-то быстро разомлела, успокоилась и почти задремала. Потом баба Нюся заставила меня стирать свои вещи, и я послушно неумелыми руками елозила трусами и колготками по ребристой стиральной доске. После ванной, закутанная в выгоревший от времени ситцевый халат, с разрисованными зеленкой коленками, я хлебала золотистый от жира борщ из огромной тарелки. Я почти забыла, что это такое – домашний очаг, и была готова на любые подвиги, лишь бы меня не гнали.
Баба Нюся тем временем ходила к моей матери. О чем они говорили, не знаю, но соседка вернулась в раздражении:
- Экая! Ребенок пропадает, а ей хоть бы хны…
На улицу мне идти был не в чем: моя одежда сохла на батарее. Баба Нюся усадила меня за уроки тут же на кухне, сама пристроилась рядом с вязанием в руках.
- Вслух все читай и решай! – предупредила она.
Возилась с заданиями я долго. Отвлекалась за окно, где гоняли хромоногую собаку мои друзья-приятели. Баба Нюся тогда отрывалась от спиц и смотрела на меня поверх очков:
- Не дури, девка. Учись.
Вечером, в сумерках, жарили картошку с луком, морковкой и чесноком. Баба Нюся оставила меня ночевать, уложив на полу. Заснуть я никак не могла, крутилась на новом месте.
- Чего не спишь? – спросила, наконец, соседка.
- А что мне завтра делать?
- Ничего. Придешь в школу, как ни в чем не бывало, будешь тише воды и ниже травы. Задуришь – ко мне больше не подходи. Обижусь.
Обижать бабу Нюсю мне было страшно. Успокоенная, я уснула под мерное тиканье будильника над моей головой.
Утром баба Нюся пошла со мной в школу. Перед директорским кабинетом сморщила лицо в улыбке: мол, ничего не бойся. И вошла.
- Где мать? – спросила меня классная.
- Бабушка вместо нее пришла, - вяло ответила я.
Названов сидел на своем месте с разрисованной йодом щекой и шишкой на лбу. Исподтишка показал мне кулак. Я в ответ высунула язык.
В животе у меня что-то ныло от тревоги. Как там баба Нюся? Чем она мне поможет? Вот сейчас откроется дверь, и меня вместе с портфелем выкинут на улицу. Стыд-то какой – при всех. Будут в меня пальцем тыкать и смеяться за спиной.
Но уроки шли, а меня никто не выкидывал. Классная после первого же урока быстро зацокала к директорскому кабинету, вернулась оттуда взвинченная и вызвала меня к доске. Если бы не упорство бабы Нюси, с которым она допрашивала меня на предмет прочитанного куска из «Тимура и его команды», я получила бы жирную пару. Но классной было жалко ставить мне пятерку. Да и четверку она выводила мне нехотя, с кислой миной. И все же победа осталась за мной.
Ликующая, после школы я побежала первым делом к соседке.
- Явилась - не запылилась? Ну, садись, ешь.
Уминала я вчерашний борщ за обе щеки, попутно рассказывала о своей четверке, первой за очень долгое время. Баба Нюся слушала внимательно, кивала головой. О чем она говорила директору – умолчала. Сказала только:
- Я за тебя добрым именем своим поручилась. Смотри, не подведи.
Уроки я снова делала у бабуни. Ночевала дома.
С тех пор жизнь поделилась на две части. Каждый день, если баба Нюся не дежурила в больнице, я торчала у нее в гостях. К матери ходила только ночевать. До окончательного переезда к бабуне оставались считанные недели.
Как-то летом в разгар каникул бабуня на неделю уехала к подруге в соседний городок. В ее отсутствие я моталась по улицам. Мать по-прежнему пила. Было голодно.
Однажды, проснувшись рано утром с сосущей пустотой в желудке, я по давнишней привычке полезла по карманам материной куртки в поисках мелочевки. За этим занятием меня и застали. Впервые. Мать еще не протрезвела после ночной пьянки, покачивалась, но за волосы схватила меня крепко и с размаху стукнула головой о стену:
- Дрянь! Воровка!
Я начала вырываться, но мать перехватывала меня за руки, плечи, лицо. Обломанные ногти ее оставляли красные кровоточащие царапины. Я отбивалась молча, но еще пару раз меня все-таки приложили головой к стенке.
И вот тут в квартиру, пинком открыв дверь, вошла так вовремя приехавшая баба Нюся. Она каким-то чудом отцепила от меня мать, отшвырнула в угол, пригрозила:
- Ты чего ребенка мучишь?! Сейчас милицию вызову! Закатают на пятнадцать суток – мало не покажется!
Мать как-то сразу обессилела, перестала размахивать руками и только тяжело дышала.
- Пошли, - баба Нюся ухватила меня за руку и потащила к себе.
Вечером она забрала к себе мою старенькую раскладушку, побрезговав подушкой и одеялом:
- Еще вши заведутся…
Счастью моему не было придела.
Я уже привыкла к ее чистой комнате с ткаными половичками, старыми часами с кукушкой и тяжелыми гирьками, лакированным комодом, на котором стояла бумажная иконка Богородицы и всегда лежала пара просфор. Бабуня была верующая.
- Это все война, - вздыхала бабуня. – Только чудо могло меня спасти…
В девятилетнем возрасте она пережила ленинградскую блокаду. Где-то там, на питерских кладбищах, покоятся ее мать и старшие сестры.
- Вот ты жалуешься – мать пьет, - иногда говорила бабуня. – Думаешь, это горе. Нет, Ксюша, это не горе. Горе – когда близких хоронишь. А я даже и не хоронила. Мать ушла - не вернулась. Сестры пошли карточки отоваривать – не вернулись. И я бы не выжила, если б меня на улице случайно труповозка не подобрала. Думали, мертвая. А я очнулась. И дядька-шофер меня пожалел – отвез в приют, а оттуда на Большую землю. А мог бы бросить на улице – кто я ему? И чего я в блокаду насмотрелась – тебе лучше и не знать. Хотела бы забыть, а ночами все просыпаюсь от голода. Как тут забудешь?
Работала бабуня постовой медсестрой в реанимации: сутки через двое. Работу свою любила, за каждого больного переживала. Знаю, что потихоньку от врачей она поила больных крещенской водой и смазывала освященным маслицем. И многие безнадежные, в самом деле, возвращались к жизни. Над бабуниными «суевериями» я сначала посмеивалась. Потом шуточки мои сошли на «нет».
- Ерунда, думаешь? – сердилась бабуня. – Многие так думают, пока не придет время умирать. И вот тут людей такой страх охватывает, что готовы и креститься, и причаститься, да только кто к ним попа в реанимацию пустит? Над иным плачу: прибери же его, Господи, не мучай. А другой вздохнет, как ребенок, - и полетела душа прямо в рай. Чем дольше живу, тем сильнее верю: нет, смерть – это не конец… А если не конец, то здесь жить надо по-человечески, по заповедям.
Бабу Нюсю уважали соседи и знакомые. За помощью к ней часто обращались даже незнакомые люди: сделать укол, свести с хорошим врачом, посоветовать насчет лекарств, подежурить у постели больного, обмыть покойника.
Отказа никому не было. И денег за свой труд бабуня не брала:
- Какая же это помощь - за деньги?
- Зачем ты им помогаешь? – иногда возмущалась я. – Вон пришла коза, она за твоей спиной гадости о тебе рассказывает, небылицы плетет.
- Тебе-то что? Не с тебя спрос, не с меня – с нее, - отмахивалась бабуня. – Чтобы с кого-то спрашивать, надо иметь на это право. А у тебя какое право? Вон, полная раковина грязной посуды. Помой, а потом суди.
Иногда мы ссорились, и я грозилась вернуться к матери.
-Ступай, - махала рукой бабуня. – Ступай! Только обратно не пущу.
Угрозы ее, однако, меня не пугали, ибо бабуня, несмотря на внешнюю суровость, была человеком добрым. Добрым – а не добреньким.
- Потакать – человеку вредить, - говорила бабуня. – Различать надо, где пожалеть, а где накричать, чтобы толк был.
Свободные вечера бабуня тратила на вязание, реже – на шитье. Увлекшись рукоделием, под мерный стук железных спиц обычно она начинала мурлыкать себе под нос какую-нибудь песню.
- Погромче, бабунь, - просила я из-за учебника.
- Что я тебе, Алла Пугачева? – хмыкала бабуня. Но через несколько минут с удовольствием запевала – сначала тихонько, потом, увлекшись, в голос:
Клее-он ты мой опа-а-авший,
Кле-он зеледене-э-элый,
Что стоишь, согну-у-увшись,
Под мете-э-элью бе-элой…
Голос у бабуни низкий - альт. И пела она по-народному - развалив звук на груди. Мне казалось, что ее голос гладит меня по голове.
Песен бабуня знала так много, что почти никогда не повторялась, и были они или народные, или послевоенные, редко – романсы.
Вечером, когда я укладывалась спать, наступало особенное время – бабуня вычитывала положенное правило, вполголоса, нараспев, с ударением на самые важные, по ее мнению, слова. Это было ее общение с Всевышним – строгое, без фамильярности.
Иное – с Богородицей. Ей, закрыв молитвослов, бабуня оставляла все жалобы, просьбы, волнения. Обстоятельно, как зримой собеседнице, она рассказывала все подробности минувшего дня, все дурное и хорошее.
- Это ничего, что он пьющий, - объясняла бабуня Пресвятой о пациенте, который едва не отправился на тот свет. – Пьянство, конечно, грех. Но его грех от слабости, а не от ума, не от гордыни. Жизнь тяжелая, никто не любит, вот он и пьет. Пьет – а ведь тоже тварь Божья. Ты уж походатайствуй перед Сыном, чтобы выздоровел, чтобы покаяться успел. Ты видела? Он, когда очнулся, заплакал. Умирать боится. Рано ему. Не готов. Умоли.
Просила о моей матери:
- Исцели души ея болезнь…
И обо мне:
- Управь, ими же веси судьбами…
«Ими же веси» звучало таинственно и сладко. Иной раз не засыпала до тех пор, пока бабуня не прочитывала эту молитву.
Я порой завидовала бабуне, для которой на свете существуют какой-то Бог, строгий, мудрый и справедливый, и какая-то Пресвятая Дева, милосердная и ласковая. Бабуне всегда было к кому обратиться за советом и утешением. О, если бы я могла поверить в них, несуществующих на самом деле!
- Бабуня, а что это такое – «ими же веси судьбами»? – спросила я как-то, измученная догадками.
- Ой, Ксюша, если это с церковнославянского перевести – на три страницы мелкого текста. И все примерно.
- Ну, объясни, как можешь!
- Скажем, судьбами других людей.
- Ну! Объяснила… Нет, ты поподробней. Я пойму, я не маленькая…
Бабуня долго молчала, жевала губами, вздыхала.
- Я по себе скажу, - заговорила, наконец. – Я, Ксюша, долго мучилась: почему из всей семьи одна в живых осталась. Должна была помереть. От голода или от холода. Или съели бы меня. Или бы жажда с ума свела. Я ведь тогда на улицу умирать пошла … Сил не было. Думала: замерзну, как усну, не больно, не самоубийство, греха не будет. А вышло как? Подобрали… Почему тот водитель возле меня остановился? Почему не бросил? Выходит, чужая судьба меня спасла. Ими же веси – Господь управил. Думала по молодости, что живу, чтобы род продолжить, чтобы детки – да все на мать мою похожи. Промахнулась. Ни детей, ни мужа. Потом встретила как-то батюшку, умный был человек, упокой его душу, Господи. Говорит: ступай в медсестры. Сама спаслась – других спасть будешь. Будешь их «ими же веси». А сейчас, выходит, из-за тебя жить осталась. Чтобы тебя приютить. Выходит, я твое «ими же веси судьбами», а ты – мое… У Бога все судьбы – как ниточки, меж собой узелками завязаны. С одними людьми – на час, с другими – до смерти. Никого случайного. Никого. Одна судьбу другую спасает… Вырастешь – поймешь.
- Я поняла, поняла…
- Спи давай, говорунья, нашла себе богослова…
И только тиканье часов, ровное, как пульс.
Так и жили: старая да малая.
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Пришла пора повзрослеть и нюхнуть взрослой жизни. Мне исполнилось двенадцать лет…
…Мартовским утром я нашла мать на полу комнаты с кровоподтеком на виске. Возможно, ее убил кто-то из собутыльников, возможно, это был несчастный случай.
Помню, как я потрогала маму за ногу. Нога была холодной. Икнув от страха, я попятилась из комнаты в коридор, оттуда на лестничную клетку, боясь повернуться спиной к мертвой матери, позвонила в дверь бабуни, едва нашарив нетвердой рукой кнопку звонка.
- Ксюша? Что случилось? – бабуня испугалась выражения моего лица.
Я что-то промычала, пытаясь отлепить пересохший язык от гортани. Попробовала выговорить «мама умерла», но это у меня не получилось. Перед глазами заплясали разноцветные круги, лицо бабуни поплыло куда-то, и я рухнула на четвереньки…
…Отец приехал на другой день после похорон матери. Я сидела на кухне бабы Нюси, когда в дверь позвонили, и на пороге квартиры появился мой отец, с поредевшими висками, осунувшийся, чужой. В руках держал чемодан, тот самый, с которым ушел от нас.
- Здравствуй, Ксюша, - волнуясь, сказал отец.
Я промолчала.
Ночевали мы у бабы Нюси.
Отец зашел в нашу квартиру, спросил, что из вещей я бы хотела взять. Но брать было нечего, кроме моих документов и старых фотографий.
Вечером отец с бабой Нюсей о чем-то очень долго разговаривали на кухне. Все, что я услышала под кухонной дверью, относилось ко мне.
- Трудно отдавать ее вам, Михаил Владимирович. У вас жена молодая, своих нарожаете, вся любовь им достанется. А кто ее любить будет?
- Таня – хороший человек, пригреет и приласкает дочь. Я думаю, поладят…
- А если нет? Она такого лиха хлебнула – мало не покажется. Ей любовь нужна. Настоящая любовь, материнская. Мачеха – она и есть мачеха… Да и вы хороши, бросили девчонку на произвол судьбы. Хоть бы раз поинтересовались как она, что с ней, жива ли, сыта ли?
- Да ведь Наташа против была. Вон куда забралась, лишь бы я дочь не видел.
- Оправдания придумываете?
Отец тяжело вздохнул. Долго думал. Бабуня не спускала с его лица пристального взгляда.
- Виноват я перед дочерью, ваша правда. Слаб. Надо было на своем настоять, а я не смог. Но еще можно все исправить… Знаете, как говорят: в жизни непоправима только смерть…
- Только смерть? – покачала головой бабуня. – Ну, исправьте дочери детство! А? Не выйдет ведь… Всего у нее в душе уже намешано, самой с этим не справиться. А девочка-то хорошая, со светлой головой. Сердечко доброе, хоть норовит, как кошка когти выпустить. И нельзя ее винить. Не ее вина. При других обстоятельствах она бы светилась, да какой же тут свет, когда никому не нужна? Вы поймите, она ведь обиду на вас таит, Михаил Владимирович. И на вас, и на жену вашу. Долго будете к ней ключ подбирать. А если сил не хватит?
- Хватит, - твердо сказал отец.
Видимо, бабуня поверила ему. После долгого молчания она сказала:
- Вы, Михаил Владимирович, смотрите – в обиду я эту девчонку никому не дам. Буду звонить, буду писать. Узнаю, что ей плохо – заберу, не раздумывая.
Отец низко поклонился ей и, кажется, даже поцеловал руку.
Следующим днем, собрав немудреные пожитки, я попрощалась с бабуней. Старалась не плакать, но слезы стояли у самого горла. Отец пожал Анне Петровне руку, и мы вышли из дома.
Я задыхалась от горя и острого чувства ненависти к человеку, державшему меня за рукав потрепанной куртки. Если бы отец не бросил нас, мама была бы жива. Если бы отец помирился с ней, моя судьба была бы иной.
Я твердо решила, что всю оставшуюся жизнь, до самого последнего дня, буду ненавидеть отца. Ненавидеть и мстить.
Третья часть кафизмы + молитва поминовения.
Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и прави суди Твои. Заповедал еси правду свидения Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое. Правда свидения Твоя в век, вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. Приближишася гонящии мя беззаконием, от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. Виждь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии мя и стужающии ми, от свидений Твоих не уклонихся. Видех неразумевающия и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя свидения Твоя и возлюби я зело. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.
Воззри на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твое. Стопы мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим. Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. Ты заповедал правду - свидетельства Твои и истину - твердо. Изнурила меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои. Огнем очищено слово Твое вполне, и раб Твой возлюбил его. Весьма молод я и презрен, - повелений Твоих не забыл. Правда Твоя - правда вовек, и закон Твой - истина. Скорби и беды настигли меня; заповеди Твои - занятие мое. Свидетельства Твои - правда вовек; вразуми меня, и буду жить. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу. Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню свидетельства Твои. Поспешил я в неурочный час и воззвал: - на слова Твои уповал. Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои. Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. Приблизились гонящие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились. Близок Ты, Господи, и все пути Твои - истина. От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал. Воззри на унижение мое и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл. Рассуди дело мое и избавь меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не взыскали. Велико сострадание Твое, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много изгоняющих меня и теснящих меня, - от свидетельств Твоих я не уклонился. Увидел неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили. Узри, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня. Начало слов Твоих - истина, и навек - все суды правды Твоей. Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце мое. Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, закон же Твой возлюбил. Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды Твоей. Великий мир - любящим закон Твой, и нет им преткновения. Ожидал я спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Сохранила душа моя свидетельства Твои, и возлюбила их крепко. Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да приблизится моление мое пред лицо Твое, Господи, - по слову Твоему вразуми меня. Да взойдет прошение мое пред лицо Твое, Господи, - по слову Твоему избавь меня. Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим. Произнесет язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои - правда. Да будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал. Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон Твой - занятие мое. Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне. Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и сотвори ему (ей) вечную память.
Объяснение священной книги псалмов. Протоиерей Григорий Иванович Разумовский. Мсалом 118, 132-176.
132. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. 133. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие: 134. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. 135. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи мя оправданием Твоим. 136. Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних закона Твоего.
Ст. 132. Вот пророк возлюбил уже заповеди, вступил на путь их, выразумел безопасную верность этого пути, привлек и Духа благодати: казалось бы, нечего больше и желать ему, и не о чем просить. Но он не перестает умолять, — о чем же? О непрерывности Божия покровительства и благоволения. В жизни духовной ни на минуту нельзя предаваться беспечности: всюду препоны, отвсюду враги, и не видишь, как подкрадутся и сокрушат. Только око Божие все зрит, только покров Божий от всего защитит. Отсюда и вопль: Призри на мя и помилуй мя. Помилуй, — яви, т.е., милость и благоволение, по суду, или по чину любящих имя Твое. «Пророк, — говорит блж. Феодорит, умоляет о том, чтобы сподобиться ему Божия благоволения, но не просто, а как обычно Тебе — Богу, — оказывать милость Свою любящим Тебя. Умоляю дать и о мне то же определение, что и о них». Слова: по суду любящих — указывают и на Божию любовь. Так обетовал Сам Бог: «Аз любящыя Мя люблю» (Притч. 8:17). Любовь Божию приемлет сердце любимого и ощущает теплоту ее. Она есть естественный покров любимых Им и любящих Его. Таков чин (или суд) любящих имя Божие. Об этом-то и молится пророк: помилуй мя по суду любящих имя Твое.
Пс.118:133-134
Пророк вступил на путь добродетели, идет уже сим путем, а все боится, как бы не сделать неверного шага. Вот он и выражает пред Богом свою искреннюю молитву: Стопы моя направи по словеси Твоему. «Сам Бог, — говорит св. Афанасий Великий, — направляет шествие тех, кои, оставя порок и неведение, вступили на путь добродетели и ведения». Как св. апостолы говорили о себе, что они и подумать ничего целесообразного не могут сами собою в делах своего апостольского служения, так исповедует это и всякий ревнитель о деле спасения своего, которое, вместе с тем, есть и дело Божие, первое и желательнейшее Ему. Как подается указание, как приемлется, сознается и одобряется, — этого никто не может знать и изъяснить, кроме того, кто сподобится сего. И да не обладает мною всякое беззаконие. Это еще откуда молитвенный вопль, при такой ревности, при такой близости к Богу? С какой стати может тут иметь место обладание беззаконием? Точно, оно не имеет места, но может возыметь. Опасаясь этого, пророк молится, чтобы не подпасть такому насилию: не допусти, Господи, как бы так взывает он, чтобы грешные возбуждения, противные Тебе, когда-либо возобладали мною, одолели меня и увлекли к недоброму, в оскорбление Тебе. И тут же присовокупляет моление об избавлении от искушений совне, выставляя самое чувствительное из них — клевету: избави мя от клеветы человеческия. Клевета, дошедши до слуха оклеветаемого прежде, чем причинить какое-либо видимое зло, уже сжимает сердце, ослабляет энергию к доброделанию и охлаждает к нему. Конечно, свидетельство совести есть сильный отпор клевете, но и оно несколько колеблется и на время уступает пред злым воздействием клеветы. Понятно после сего, почему, с избавлением от клеветы, соединяется у пророка обет: и сохраню заповеди Твоя, т.е. и буду беспрепятственно хранить заповеди, или: и мне легче и удобнее будет тогда хранить заповеди Твои.
Пс.118:135
Обыкновенно по лицу угадывают, в каком расположении тот, кого встречают, к тому, кто встречает — в добром или недобром, благоволительном или наоборот — неблаговолительном. Мрачное лицо означает неблаговоление, лицо светлое выражает благоволение, отношение любовное, а в высшем — и покровительственный, и защитительный взор, с желанием сделать всякое добро. Потому говоря: просвети лице Твое — пророк молится о Божием к себе любительном благоволении. Лице Божие невидимо, но созерцается умом. При этом совесть дает знать — в каком отношении состоит созерцающий Бога к созерцаемому, всевидящему Богу, и в чувстве отражается Божие благовление или неблаговоление к нему, смотря по свидетельству совести. Посему слова:Лице Твое просвети на раба твоего — могут означать еще такую молитву пророка: даруй мне, Господи, всегда воззревать на Тебя умными очами без боязни и смущения за свою неисправность пред Тобою. Даруй мне выну «предзревать Тебя» (Пс. 15:8) пред собою и никогда не дерзнуть оскорбить Тебя чем-либо и понудить благостыню Твою омрачить светлое лице Свое. И Сам Христос Спаситель говорит, что блаженство наследуют те, которые будут иметь чистоту сердца (Мф. 5:8), — они Бога узрят, насладятся Божественного лицезрения. Но кто же чист? И помимо сознания нашего, сколько может быть неисправностей и нечистот! Господь снисходит немощам и покрывает их милостию Своею. Но ревнитель богоугождения, дыша любовию к Нему, не может равнодушно относиться к этому и желанием желает быть совершенно во всем чистым пред Богом. Потому он и молится: научи мя оправданием Твоим, научи быть всегда правым пред Тобою в делах, словах, помышлениях, чувствах и начинаниях, и притом не в проявляемых только, но и в самых сокровенных, Тебе единому ведомых и видимых.
Пс.118:136
Пророк подал пред этим мысль о несознаваемых неисправностях, а здесь поминает он о неисправностях сознаваемых, с засвидетельствованием, что такого рода сознание изводит из очей его два источника слез. Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Этим означает он искреннее раскаяние во всем, что сознательно допущено им, во внешней жизни и во внутренних движениях, неугодного Господу, противного явной воле Его, выраженной в заповедях. Все это в разных степенях — нечистоты, тяготящие совесть; тяготящие, говорим, но не подавляющие. Сознав их, ревнительный человек приходит в движение и спешит очистить нечистое, — чем же? — водою слез. Он не довольствуется тем, чтобы сознаться только в неисправности и положить намерение вперед не допускать ее, но скорбит о том и сокрушается так глубоко и искренно, что от томления сердца очи становятся исходищами водными. Слезы сокрушения это духовное омовение. И оно не есть что-либо мечтательное, а совершается действительно. Поплакавший обновляется. Но это обновление печатлеется лишь у того, кто, по исповеди, получает разрешение. Вот и стал опять чист человек. Снова загрязнишься, — снова употреби то же омовение, и так всю жизнь. Есть такие любители телесной чистоты, что каждый день переменяют белье и употребляют омовение. Если же это делается для тела, то насколько усерднее должно быть совершаемо то же для души! Что изводит такую воду из очей кающегося? Не страх и не опасения за себя, а любовь. От страха и опасения за себя может произойти только решение исправиться и остерегаться вперед неисправностей, а слезы, омывающие нравственную скверну, изводит любовь. Любовь не может сносить выступления из воли любимого. Так, св. апостолПетр, по отречении от Господа, в каком-то непонятном забытьи, встретив очами своими обличительный взор Господа, «изшед вон» со двора архиереева, — места оскорбления Господа, «плакася горько» (Лк. 22.62).
137. Праведен еси, Господи, и прави суди Твои: (138) Заповедал еси правду свидения Твоя, и истину зело. 139. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои. 140. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. 141. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. 142. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. 143. Скорби и нужды обретоша мя заповеди Твоя поучение мое. 144. Правда свидення Твоя в век: вразуми мя, и жив буду.
Восемнадцатое осмистишие идет под буквою Цаде — бок, сторона. Так как у пророка дело идет все о заповедях, то в этом осмистишии надо искать указания разных сторон или самых заповедей, или их отношения к нам. Здесь указываются стороны сего последнего. Можем себе представить в средине корпус заповедей, к которому можно подходить с востока, запада, севера и юга. С каждой стороны отношение к ним выражается особым расположением. С востока станет вера — уверенность, что заповеди Божии суть правда и истина непреложная (ст. 137—138); с запада — исходящая из этой уверенности ревность об исполнении всех этих заповедей и своя к ним любовь (ст. 139—140); с севера — смирение с надеждою (ст. 141—142); с юга —терпение всего находящего из-за верности заповедям. Таково содержание сего осмистишия.
Пс.118:137-138
Пророк исповедует праведность Господа, выставляя убеждение, что ничто неправое не может исходить из уст Божиих: Праведен еси, Господи; но исповедует это не в виде отвлеченного созерцания, а как основание правостисудов Божиих. Суды Божии означают и присуждения вообще, то есть все, чему быть присуждает Бог. Это вводит в область Промышления Божия и исполняет успокоением в преданности воле Божией. Но поелику здесь речь идет о заповедях, как видно из нижеследующего стиха, сходного по содержанию своему с настоящим, то ближе будет под судами разуметь присуждения, коими Бог определяет, как должно нам жить, — определяет, т.е., не участь нашу, а то, как надо нам действовать, независимо от нашей участи. К этой мысли приводит нас и греческое слово, отвечающее слову правы: — прямы, — прямы, т.е., пути, которые указывают нам заповеди Твои, Господи, прямо ведут они к цели. В этих двух стихах пророк выражает уверенность в правости и истине заповедей. В первом почерпает он эту уверенность из созерцания праведности Божией, а во втором — из уразумения свойств самих заповедей. Прямы, говорит, указания заповедей Твоих, Господи, потому что Ты Самправеден, и ничто неправое и непрямое не может получить от Тебя одобрения. Сколько уверен я в том, что Ты праведен, столько же уверен и в том, что прямы пути, указываемые Тобою в заповедях. Пророк исповедует, что они, будучи и сами по себе праведны и истинны зело, дают нам прямейшее, вернейшее и непреложнейшее правило жизни. Мысль та же, что и в предыдущем стихе, но там пророк вниманием своим стоял на праведности Божией, а здесь стоит на правде и истине заповедей, впрочем так, что как там видел он в праведности Божией правоту заповедей, так и здесь в заповедях видит правоту Божию, исповедуя, что они так же непреложно правы и истинны, как непреложно праведен Сам Бог, утвердивший свидетельством Своим столь высокое их достоинство. Св. Афанасий Великий говорит: «Ты заповедал свидения, как сущую и самую очевидную истину. В высшей степени прямые правила судов Твоих показывают правду Твою. Свидения Твои суть божественные Писания: они — правда по нравственным заповедям, и истинапо смыслу, заключающемуся в самых словах». Правы и зело истинны заповеди потому, что они совершенно соответствуют естеству нашему, нашему настоящему состоянию и разнообразным обстоятельствам и положениям жизни нашей; вследствие сего, на исполняющего их они низводят глубокий внутренний мир, дают ему твердость при неприятностях, незаметно выводят из запутанностей, ведут прямо к цели и вводят в блаженную вечность.
Пс.118:139-140
Ревность о заповедях не может ограничиваться одним своим личным исполнением заповедей: она ищет, дабы и все другие так ревностно исполняли их, чтобы славилось имя заповедавшего их Господа, и жизнь по воле Его являлась господствующею не в той только среде, где живет ревнитель, но и повсюду. Эту-то сторону ревности и выражает пророк в настоящем стихе.Истаяла, говорит, мя ревность Твоя. Ревность истинная огненна, питающий ее горит духом, — горит, но не сгорает. Это чувство не разорительно, хотя многовозбудительно, и будучи многовозбудительным, не требует неукротимых действований. Все это выражает пророк мягким словом: Истаяла мя ревность Твоя, то есть та, которую Сам Господь имеет, так как Он есть ревнитель. Пророк в этом случае выражает подражание свое Господу. Как Господь ревнует о заповедях Своих, желая, чтобы все исполняли их, так и я, так и все старайтесь делать. Или так ревность Твоя есть ревность по Тебе. Пророк говорит, любя Тебя, Господи, я ревную о Тебе, — о том, чтобы всеми всюду исполняема была воля Твоя, и славилось чрез то пресвятое имя Твое. И то и другое — неотлучная принадлежность истинно благочестивого духа. Ревнующий ревностию Божией там, где неведома воля Божия, старается распространить ведение о ней, а где она должна бы быть ведома и бывает видимо забыта, скорбит и сокрушается. Прискорбно, говорит, мне видеть, как дерзают забывать волю Твою врази мои. Такова любовь. Она не может считать чуждым себе ничего из того, что касается любимого. Оттого ревнует о всем угодном ему. Св. Афанасий Великий так описывает состояние пророка, изображенное в этом стихе: «В какую ревность приходил я, как скоро видел кого-либо забывающего словеса Твои! И не просто приходил в ревность, но истаявал от ревнования по Тебе, если видел забывающих словеса Твои. Об этой ревности от лица Господа, выраженной в псалме, «помянута ученицы, яко ревность дому Твоего снеде мя» (Пс.68:10; Ин. 2:17) . Блж. Феодорит приводит и другие примеры такой ревности: «Пророк оплакивает и живущих в беззаконии и видя, как пренебрегают Законоположником, справедливо приходит в негодование. Такая ревность прославила Финееса, она великого Илию соделала присночтимым, воспламененный ею Стефан обличил неверие иудеев» . А далее (ст. 140) пророк ведет речь об этом не к беззаконцующим, а беседуя с Господом: Разжжено слово Твое. Разжжено — чисто, беспримесно, как говорит он о том и в другом месте: «Словеса Господня словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею» (Пс. 11:7). Чисто и совершенно слово Господне, потому и привлекательно, а будучи привлекательно, оно возбуждает любовь к себе. Я, говорит, и возлюбил его, но возлюбил не потому только, что оно чисто, а более потому, что оно от Господа. Сознавая себя рабом Господним, я покорствуюслову Его, и тем охотнее, что слово Его всегда есть полная и беспримесная истина, любезная и привлекательная для сердца моего. Слово разжженоподает и такую мысль, что оно огненно (греч.), проникнуто огнем. Как огненное, оно согревает, и не только согревает, но и разжигает, а разжигая, очищает; оно не только само чисто, как прочищенное огнем, но и приемлющих его очищает огненным своим действием. Человек — смесь добра и зла. Слово Божие, приемлемое верою, входит внутрь его, как огонь, и, воздействуя на добро, оживотворяет его, а зло опаляет, и восставляются тогда в духе все добрые созерцания, движения и чувства. А так как чрез это он вступает в свой чин, то не может не чувствовать себя хорошо в таком состоянии. И чувствует, и услаждается тем, и, любя такое состояние, возлюбляет и слово Божие, доставляющее ему то.
Пс.118:141-142
Вспомнив о своей юности и пройдя мысленно свою жизнь, исполненную разных житейских превратностей, в чувстве глубокого смирения, пророк говорит о себе в таком тоне: никакого-то во мне нет толку, будто в маловозрастном, и ничего-то нет во мне, за что можно было бы, хоть маломало, одобрить меня, я ничего не стою; не стою, — но заповедей Твоих все же не забываю, зная красоту и величие их, — все же уклоняюсь под сень их, чтобы достоинством их прикрыть мое ничтожество. Я облекся в них, как в одежду, чтобы из-за их светлости забыли о моем ничтожестве. Мысль св. пророка, начав с юности и прошедши всю жизнь, перенеслась в вечность и узрела на всем этом протяжении неизменно пребывающею одну лишь правду Божию. Правда Твоя правда во век. Почему? Потому что она одна дает закон, который не только истинен, но сам есть истина. Питаясь этой уверенностью, как бы так говорит пророк: «воодушевляюсь надеждою, что, идя путем закона Твоего и пребывая верным правде Твоей, я держусь того, что есть едино истинно, не обманчиво и безошибочно. Там, за пределами жизни, я вижу венец, которым увенчается верность закону Твоему и правде Твоей. Смирение ничего не видит в себе такого, чем могло бы оправдаться, а между тем истинно смиренный не падает духом, — отчего? Оттого, что его окрыляет надежда на то, что премилосердый Господь не покарает его. На чем же коренится такая надежда? На сознании, что он искренно верует и всегда всеусильно старается быть верным тому, во что верует. Совесть не обличает его в лености, оплошности и сознательном уклонении от закона Божия. Посему, хотя он и находит себя ничтожным, (уничижен) сравнительно с тем, чем бы ему быть следовало, но не теряет надежды быть спасенным, ибо все делал и делает, зависящее от него. Таков был св. апостол Павел: «время, — говорит он, — моего отшествия наста..., течение скончах, веру соблюдох: прочее соблюдается мне венец правды» (2 Тим. 4:6-8). Скажут: не самонадеянно ли это? Нет. «Ничесоже в себе свем (ничего худого за собою не знаю), — исповедует он, — но ни о сем оправдаюся» (1 Кор. 4:4). Оправдывающий нас есть Господь, а если Господь кого оправдает, то кто же его осудит? Что же привлекает Господнее оправдание? «Вера любовию споспешествуема» (Гал. 5:6)
Пс.118:143-144
Там смирение с надеждою показал, а здесь показывает терпение скорбей и всего находящего из-за верности заповедям. Скорби и нужды почти всегда, словно мраком, покрывают верного заповедям. Заповеди Твои, — говорит пророк, — поучение мое. Я держу их в уме моем, лелею в сердце, исчезаю в них всем вниманием моим и по ним, как по шнуру плотничьему, направляю жизнь мою. И между тем, что же встречаю на пути? Скорби и нужды, непрестанные столкновения, которые уязвляют сердце мое и тяготят меня. Отчего же это так? Оттого, что так Богу угодно, — Ему одному и ведомо. Подклони же голову под крепкую руку Божию, и молчи. Ты кто противоотвещаяй Богу? Будь доволен одною верою, что если Бог есть твой Бог, а ты Божий, то все — твое. Завещание об этом уже написано и законно скреплено. Еще немного, — и будешь введен в наследне, а теперь ты состоишь под искусом. Все находящее должно благодушно терпеть, заботясь только о том, чтобы неуклонно идти путем заповедей и веруя, что это есть единственно верный путь. Скорби и нужды покушаются омрачить светлость этой веры, а ты разгоняй такое омрачение и восстановляй светлость веры своей, твердя себе: нет, заповеди — вечная правда. Сам Бог засвидетельствовал их непреложность. И вместе с тем, обращаясь к Самому Господу, молись: вразуми мя, и жив буду, дай мне, Господи, всегда держать в разуме убеждение в непреложности заповедей Твоих, — и жив буду, т.е. жить буду по ним, никакие искушения не возмутят ровности той жизни, какая, по милости Твоей, установилась в духе моем; или: неуклонно от заповедей Твоих проживши век сей, перейду верным Тебе в другую жизнь. Там Ты наделишь меня вечно блаженною жизнью, и я вечно буду жить с Тобою и в Тебе. Такими помышлениями и воззваниями подкрепляет себя терпящий, и жизнь его течет ровно и невозмутимо, хотя снаружи кажется и утлою ладиею, которую волны жизни бросают туда и сюда, и готовы раздробить и разметать по пространству вод.
145. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи: оправдания Твоя взыщу. 146. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. 147. Предварих в безгодии и воззвах: на словеса Твоя уповах. 148. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. 149. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судбе Твоей живи мя. 150. Приближишася гонящий мя беззаконием: от закона же Твоего удалишася. 151. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. 152. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси.
Девятнадцатое осмистишие идет под буквою, или словом, куф, что значит обезьяна. Отличительная черта в нравах обезьяны есть ее подражательность во всем. Принимая во внимание только то, что есть доброго в подражательности, мы находим советы и образцы для подражания и в слове Божием. Так, св. апостол Павел, наставляя в вере и правилах жизни учеников своих, жителей города Коринфа, писал им: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 11:1). А Христос Спаситель возводит нас к Самому Отцу Небесному и Его дает в образец для подражания: «Будите милосерди, — говорит Он, — якоже и Отец ваш Милосерд есть» (Лк. 6:36); «будите совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5:48). Образец совершенства, или достодолжной жизни, начертан для нас в заповедях Божиих, последование которым, главным образом, и внушает пророк в настоящем пространном псалме; сокращенно же эти внушения можем видеть в настоящем осмистишии. Пророк представляет очам нашим Господа, близ Сущаго, и от лица Его исходящие заповеди, как неотложный вечный закон жизни нашей (ст. 151 и 152). Сказать это — значит все сказать, ибо ясно, что этим требуется. Пророк и не прибавляет ничего, а только предлагает образцы воззваний к Богу духа, возжелавшего быть верным сему закону и не находящего в себе сил к тому. Воззвах всем сердцем… Предварих ко утру... Услыши, спаси, А сам что предлагает? Оправдания Твоя взыщу... сохраню свидения Твоя. Усердие есть; помоги Господи, — и дело будет (ст. 145—148). Склонить же Господа на услышание чает милостию и судом (ст. 149), совершенно предавая это дело в руки Божий. Поскорее только, Господи, яви, говорит, помощь, ибо вот — враги (ст. 150).
Пс.118:145-146
Воззвах все сердцем — здесь не то значит, что «громко говорил», а выражает силу духовного устремления к Богу. Не голосом, говорит, воззвах, как толкует и блж. Феодорит, но сердцем, и не какою-либо частию сердца, авсем сердцем, во всю широту и высоту моего чувства и мысли, — воззвах всем существом моим [б, с 603]. Вот какова должна быть наша молитва! Господь видит, о чем болит сердце наше, и не только видит, но, говоря по-человечески, даже чувствует эту боль. А что сделать в отношении к этой боли, то знает один Он. Потому-то пророк и учит нас молиться: лишь услыши, а что далее — указывать не дерзает. Буди воля Твоя! — Услыши..: я же оправдания Твоя взыщу. Оправдания Божий суть заповеди, взыскивать кои значит верно и усердно исполнять, выискивать и высматривать, где какая заповедь приложима, и не медля исполнять ее со всем усердием. Не это ли и предмет усиленного взывания? Усердно взываю к Тебе, Господи, помоги, — и желание мое будет делом. А затем и еще вопль: Воззвах Ти, спаси мя, и в такой же, разумеется, силе, только вместо; услыши — говорит определенна спаси мя, а в виду имеется опять все то же: и сохраню свидения Твоя. Очами ума и желаниями сердца и воли обнял он эти свидения, и к одному стремится, чтобы перевесть их в жизнь свою, и по ним образовать нрав свой так, чтобы между ним, как первообразом, — и его собственным внутренним и внешним строением, — не было разности, и последний представлял верную копию первого. Из совместного выражения желаний: спаси и сохраню, — очевидно, что в слове спаси он совмещает получение всего, что необходимо для сохранения свидений Господних. Он говорит как бы так: даруй мне спасительные силы, и сохраню свидения Твои, так как без этого я не смогу сохранить их, не смогу совершить дела, которое и Ты от меня требуешь, совершать которое и я всем желанием желаю. Блж. Августин пишет: «Спасение(т.е. получение того, что означается здесь словом спаси) дает душе возможность делом совершить то, что сознает она для себя обязательным и достодолжным, а где нет этого спасения, там душа падает в изнеможении» . Словом сохраню пророк не самонадеянность выражает, а то, что как скоро получится оное спасительное, то необходимым следствием того будет хранение свидений. Не он будет хранящий, а та сила спасительная сама уже будет хранить, коль скоро она будет получена.
Пс.118:147-148
Безгодие — с греческого (от — час, время, с отрицательною частицею «я» выходит, immaturitas crepusculum, безвременность, раннее время пред рассветом). В «Учебной Псалтири» 1897 года против сего стиха на поле поставлены слова: предварих зарю утреннюю, это то же, что поется в одном церковном пасхальном песнопении: «Предварившыя утро яже о Марии...» (Ипакои, глас 4). Таким образом, мысль, выраженная в первых словах стиха, будет такая: предварих не в обычный час, безвременно. Еще все спят, а я, упреждая всех, встаю и становлюсь на молитву, взывая к Тебе, или, как читаем в переводе с еврейского: «Предваряю рассвет, и взываю». Делает же он так потому, что возуповал на словеса Божий, на обетование Его слышать молитву молящихся Ему: «Воззовет ко Мне, и услышу его» (Пс. 90:15; Ис 58:9; Иер. 29:12). В этом смысле здесь выражается напряженность искания с указанием того, чем оно воодушевляется. Искать, не щадя сил и не жалея себя, искать, окриляясь упованием — это настоящий строй духа, желающего угодить Богу и молящегося о том. Блж. Феодорит пишет: «Пророк был царь, обремененный тысячами забот, кроме того, нес военные подвиги, а все-таки приносил молитвы Богу, и не только с рассветом дня, но даже среди ночи, не дожидаясь пения петухов. Так любил он Творца-Бога, так усердно испрашивал у Него помощи» . Но безгодие, как и у нас безвременье, может означать безуспешность трудов, недостаточность необходимо нужного, стесненность положения. Так разумеет это слово св. Афанасий Великий. «Безгодием, — говорит он, — пророк называет тьму или смутность обстоятельств» . Что же это за тьма и смутность обстоятельств?» По мысли св. Амвросия, здесь разумеется не теснота внешнего положения, а лучше думать, что здесь разумеются те крайности, которые внутри случаются с ревнующим о нравственно-религиозном преспеянии. Находит тьма помышлений и омрачает светлость сознания, восстает буря нечастых похотений и отгоняет тревожность сердца, неизвестно откуда находит расслабление и подрывает всю энергию. Все это, совокупляясь вместе, колеблет самое коренное намерение и ревнование — быть неуклонно верным Господу и заповедям Его. Куда обратиться в таком крайнем и томительном безгодии? Спеши предварить лице Господа. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет (Пс.33:19). Рано, говорит (в. ст. 148) пророк, спешу я открывать очи мои, заставляю себя просыпаться ко утру, чуть свет, затем, чтобы поучаться словесам Господним. Поучаться — читать на память или по книге слово Божие и размышлять. Блж. Феодорит пишет: «Не только в продолжение дня, но и по утрам поучался он в Божиих законах. А мы, живя в бедности, избавленные от всех забот, проводим ночи, покоясь на ложе, и с наступлением дня не приносим песнопения Подателю благ» . Св. Амвросий внушает: «Как сладостно начинать день созерцанием, например, блаженств, о которых пишется в Евангелии, воспринимать возбуждения к добродетелям, какие там указываются, и полагать намерение осуществлять их в продолжении дня!»
Пс.118:149
Сознавая, что все от Бога, и начинания, и дела, пророк молится здесь так: услыши, Господи; Ты видишь, чего хочу, к чему стремлюсь, о чем вопию, — услышь же и поспособствуй! Услыши по милости, а живи, ниспосли, т.е., живительную силу, или даруй жизни моей раскрыться,-по судьбе Твоей, по присуждению Твоему, как находишь то благопотребным и спасительным для меня. Слова: по судьбе Твоей живи мя — означают не одну меру живоносных дарований, но и всю участь приемлющего их. Но так как неисследованы пути каждого из приемлющих, то благопотребно молиться так имиже веси судьбами спаси мя! Не ко всем все идет, и не всякому всякий путь пригоден. Иной с большим умом гибнет, другой и с посредственным спасается; иному счастье не препона, другому благопотребнее тесная жизнь. Мы не можем наверное знать, что для нас лучше. Потому разумнее, молясь, не вопить: дай то, возьми это, а предавая все Божию усмотрению, смиренно взывать: по судбе Твоей живи мя, т.е., как присудишь лучше, так и устрой мою жизнь.
Пс.118:150
В предыдущих стахих сего осмистишия говорится о приближении к норме жизни, указуемой заповедями, а в этом стихе пророк возымел намерение оттенить эту светлую сторону жизни противоположением. Я, говорит, ищу, как бы нрав свой образовать по закону Твоему, приблизиться к нему жизнию, а гонящие меня, люди противоположного направления, заботятся о том, как бы больше и больше преуспевать в беззакониях, вот они уже приблизились, чтобы схватить и поразить меня. Но в лице моем они преследуют не столько меня, сколько закон Твой, от которого они удалились, а потому они враги не мои только, но и Твои. Заступись же, Господи, не меня ради, но ради закона Твоего.
Пс.118:151-152
Господь близ всех и всюду, как вездесущий. Но не все сознают это, да и из тех, кто сознает, не все держат в постоянном внимании. Вина этого не в Господе, а в нас. Когда тело здраво, оно с приятностию ощущает окружающую его теплоту, а когда оно расстроено (в лихорадке, например), то случается, что не только не чувствует теплоты, а напротив, обдается холодом. Так и здесь:Господь близ, и всех обнимает. Есть такие, которые чувствуют объятия Его, а есть и такие, которые не чувствуют или хотят вырваться из них. Чувствуют те, которые живут по заповедям Божиим. Заповеди Божий, обращаясь в нрав, чрез постоянное их исполнение, чрез добродетели образуют в душе стороны богоподобия и чрез то точки соприкосновения к ней Бога, Которому уподобилась она добродетелями. Кто стал таким, тот носит Бога и не может не исповедать, что близ Господь, а сознавая, что это дано ему ради верности закону, не может не свидетельствовать, что этот закон есть истина. Закон образования себя по заповедям Божиим состоит в том, чтобы сначала созерцать в них близ сущим Бога-законоположителя, а потом иметь Его близ себя и в себе. Закон этот вечен, он положен на вечные времена и не может быть ни отменен, ни изменен. Об этом и говорит здесь пророк, прилагая к сему, откуда и когда он это узнал. Исперва, с первого т.е., раза, лишь только сознал себя, лишь только приступил к жизни по заповедям, тотчас и познал, что онина век основаны. «Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки» (пер. с евр.). Откуда же он это познал? От свидений. Если сведения принять только как доказательство, то будет: познал из Твоих свидетельств и удостоверений, Господи. Сам Ты, давая заповеди, сказал, что они вечны и неизменны.
153. Виждь смирение мое и изми мя: яко закона Твоего не забых. 154. Суди суд мой и избави мя: словесе ради Твоего живи мя. 155. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. 156. Щедроты Твоя многи, Господи: по судке Твоей живи мя. 157. Мнози изгоняшии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. 158. Видех неразумевлющыя и истаях: яко словес Твоих не сохраниша. 159. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. 160. Начало словес Твоих истина, и во век вся судбы правды Твоея.
Двадцатое осмистишие идет под буквою реш — голова. Голова обыкновенно применяется в значении чего-либо главного, существенного, как, например, в следующих словах: «Глава же о глаголемых» (Евр. 8:1). В нравственной жизни этим словом можно означить главные расположения сердца, на которых держится и которыми приводится в движение эта жизнь, со всеми ее проявлениями, — строй сердца, спасающегося и богоугодного. Такие расположения Христос Спаситель указал в изложении блаженств, именно: смирение, сокрушение, кротость, правдолюбие, милостивость, чистота сердца, миролюбие, терпение, упование (Мф. 5:2-12). Подобные сим расположения указал и св. апостол Павел, в исчислении плодов Святого Духа в сердце верующего: «Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Есть и в других местах Писания такие указания, К числу их следует отнести и настоящее осмистишие. Здесь указываются: смирение, чистота совести, взыскание оправданий, упование спасения, терпение, ревность о доброй нравственности других, любовь богопреданная и, наконец, убеждение в непреложности заповедей Божиих.
Пс.118:153
Смирение есть такое расположение духа, по которому, украшаясь многими добродетелями, считают себя такими, как бы в них не было ничего доброго, а потому и ставят себя ниже всех. Сознавая же себя бессильным сделать что-либо достодолжное, испрашивают у Бога на всякое доброе дело силы — начать его, продолжать и окончить, а совершив его, воздают благодарение Богу, яко совершителю, ничего не приписывая себе. Такое расположение духа есть корень жизни духовной. Без него не ждите помощи Божией, а без помощи Божией ни в чем не успеете. Пророк и ставит такое расположение во главе. Смирением называется и то еще, когда кто бывает смиряем внешними обстоятельствами — лишениями, утеснениями, болезнями, нуждами, потерями близких и т.п. Может показаться, что именно об этом смирении и поминает здесь пророк, ибо сказав: Виждь смирение мое, прибавляет: и изми мя, исторгни, т.е., меня из внешних смирительных обстоятельств. Нет сомнения, что хотя и это было, но пророк, минуя то, останавливает взор Божий на смирении сердечном — едином достойном Его воззрения. Только на том основании, что оно присуще сердцу, мог он дерзновенно воззвать к Богу: изми мя. Это равносильно просьбе больного к врачу: сними пластырь, рана уже зажила. Покорствую, смиряюсь, сознаю, что я ничто. Воззри же, Господи, на это самоуничижение мое, и высвободи меня от прискорбных случайностей,яко закона Твоего не забых. И большой грешник может иногда приходить в самоуничиженное чувство своего непотребства, но ему не пристало воззвать к Богу: Виждь... Нельзя ему воззвать: и изми мя, — ибо за что изъять, когда всю жизнь валяется он в похотях? Только то самоуничижение ценно пред Богом, которое имеется при полной верности закону Его, и только то воззвание —изми мя — сильно, когда при нем совесть не укоряет, что когда-нибудь и в чем-нибудь был забыт закон Божий.
Пс.118:154
Как в предыдущем стихе пророк просит у Бога милости — воззреть на его смирение и избавить от напасти, — так и здесь обращается к Богу за судом (Суди суд мой), и, конечно, потому, что имеет совесть чистую и что совесть эта ни в чем не обличает его пред Богом. А если что случится, в мыслях ли, в чувствах или в движениях пожеланий, она тотчас очищается покаянием, и опять восстановляется светлость сознания. Соблюдение совести в такой чистоте и есть одно из коренных расположений сердца, угождающего Богу. Эта светлость и чистота составляют отраду жизни по заповедям, несмотря на все трудности, внешние и внутренние. В ней опора такой жизни, в ней же и дерзновение пред Богом. Как невинное дитя, смело ходит пред Богом чистый совестию, и без смущения обращается к Нему в молитве своей. Да молитва и не может иначе зачаться и созреть, как под сознанием чистоты совести. Ее все истинные подвижники и поставляют водительницею, или дверью, молитвы. Такое-то состояние усматривается в пророке, когда он смело взывает к Богу:Суди суд мой. Хочешь достигнуть возможности и самому так же смело взывать? Сохрани совесть свою чистою во всем. Но надежду, что ты будешь услышан, полагай не в этом, а в одной милости Божией, потому-то пророк и прибавляет дальше: словесе ради Твоего живи мя. Живи мя — то же, что «избави мя». Внешние скорби делают человека словно и не живым, потому и говорится «убитый горем». Избавление от скорби есть оживление убитого горем человека. Пророк молится оживить его чрез избавление от того, что сделало его убитым. Ради чего? Словесе ради. Какое же это слово? Слово обетования Божия — быть покровом для тех, кои верны Ему не внешне только, но по свидетельству совести своей. Слово же обетования таково: «Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его... и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90:15-16; ср. Иов. 22:27). Памятуя сие обетование, пророк и воззвал: словесе ради Твоего живи мя.
Пс.118:155
Чистота совести (о которой сказано выше) зависит от неопустительного исполнения всего, что совесть считает обязательным для себя, и от устроения всей своей деятельности, как внешней, так и внутренней, такого, чтобы в ней не проскользало ничто несообразное с заповедями Божиими. Кто таким способом ведет дела свои, тот устрояет жизнь свою праведно. А это и естьвзыскание оправданий. Кто его не имеет, от того далеко спасение, а кто имеет, к тому оно близко. Это последнее и желает внушить пророк «чрез противоположение», как замечает блж. Августин. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. Взыскание оправданий не есть только исследование и рассмотрение: это лишь начало и подготовка. Взыскать — значит познавать и делать. Надобно заложить в сердце теплое усердие к достодолжному и ревнование о нем. Это ревнование и усердие будут, как стена, отражать все противоположное, и тогда все дела будут идти право. Такое-то усердие и есть собственно взыскание оправданий, а ведение и расследование есть только помогающее дело. Отчего не спеется жизнь пооправданиям Божиим? Оттого, что усердия к ним нет, хоть знания и много. Потому-то пророк в числе главных условий спасительной жизни и поставилвзыскание оправданий. Без него нет и самого течения такой жизни; оно пресекается.
Пс.118:156
Есть и взыскание оправданий, и притом такое усердное, что даже совесть не обличает ни в какой оплошности, но все-таки не в этом основа спасения. «Кто чист от скверны, аще и един день жития его на земли?» (Иов. 144). И око Божие в ком не видит много достойного осуждения? Куда же обратиться? Кщедротам Божиим. Вопий же непрестанно: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое» (Пс.50.-3). К тому же, ныне ты стоишь, но можешь ли сказать, что и завтра будешь стоять? Если нет, то ищи верной опоры. А где тыее найдешь, кроме Того, Кто всегда есть один и тот же и, содержа все, держит и тебя в деснице Своей? Положи же себя в эту десницу и произволением своим, и всем строем расположений твоих, вопия всем существом: По судбе Твоей, Господи, живи мя, или другими словами: Ими же веси судьбами спаси мя, ибо жизнь и есть только спасенная жизнь, а спасение каждого из нас устраивает Господь, по судбе Своей, то есть, как знает и как хочет. И никто не спасется, кроме тех, кои всецело предают себя в руки Божий. Щедроты Твоя многи, Господи, — это бездна всеобъемлющая и всепоглощающая, но не в них спасение. Надо самому ревновать, и не ревновать только, но трудиться, и трудиться до последнего напряжения сил. Да и не в этом, опять же, спасение, а в том, если Бог начнет Сам содевать Свое спасение в нас. А Бог не станет созвать его, если мы не предадим Ему себя всецело, не пресекая, вместе с тем, и всеусильного своего действования. Вот в чем таинство истинной жизни. Самим всеусильно действовать во спасение, а содевающим его сознавать единого Господа, и в Нем едином иметь упование спасения.
Пс.118:157
Упование спасения дает силу к перенесению и преодолени всех противностей, встречающихся на пути спасения. Противностей этих много: внутри — от страстей, совне — от людей страстных и нечистых сил. Вот это и есть — мнози изгонящии мя и стужающии ми. Они окружают и теснят всякогоне уклоняющегося от свидений Божиих за то, что он не уклоняется от них. Но неуклоняющемуся по сему поводу от свидений Божиих от этого не беда; ибо «блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное» (Мф. 5:10). И не то, что будет их это Царствие, а — есть; и не то, что будут блаженны, а — суть. Прискорбности, беды и тесноты за верность свидениям Божиим сами из себя источают сладостное утешение, располагающее не чуждаться их и отревать, а скорее желать и искать, и радоваться тому, что они есть. Условие для этого есть неуклонение от свидений Божиих, а следствие этого есть большая ревность к такому неуклонению. То и другое питают себя взаимно и рождают плод — благодушное терпение. Терпение, по-видимому, есть как будто нечто истощающее жизнь, а на деле оно питает и укрепляет духовную жизнь, последняя питается им, как питается «древо при исходищих вод» (Пс.13), только надобно, чтоб в основе его (терпения) лежала верность свидениям Божиим: кто верен заповедям, или свидениям Божиим, тому утешительно терпеть, что бы он ни претерпел. Потому пророк и говорит: Много стужающих, но пусть их! Я свое дело знаю, и о том только ревную, чтобы не уклониться от свидений Божиих.
Пс.118:158
«Если я видел, говорит пророк, кого неразумевающего, то, сожалея о нем,истаявал, из ревности по богочестию», — это говорит св. Афанасий Александрийский ). Неразумевающие (греч. , бессмысленные, бессовестные) — не то, что слабоумные или необразованные невежды, а те, которые безумствуют по злой воле своей; хоть и знают, как должно жить, но живут совсем противно тому, безобразничают, и себя губя этим, и бесславя Создателя и Спасителя своего. Кто любит добрую нравственность, тот не может равнодушно смотреть, не скорбеть и не сокрушаться сердцем, окруженный людьми, которые, забыв Бога, бесстрашно попирают закон Его святой. Пророк свидетельствует о себе, что он, взирая на это, истаял, как истаявает свеча, снедаемая силою огня. Такова истинная любовь к Богу! Не себя только она держит на путях, угодных Ему, но ревнует, чтоб и все братия держались тех же путей, чтобы благоутождаемый Бог утешался всеми и на всех почивал благоволением Своим. Пророк ничего не говорит о том, что делал он, или что следовало бы делать тому, кто любит словеса Божии, когда видит, что их знать не хотят, и, обращаясь к Богу, свидетельствовал только пред Ним, как мучительно для него повсюдное несоблюдение словес Божиих, ясных, определенно выражающих то именно, чего от кого требует Бог.
Пс.118:159
Пророк, как видели мы из предыдущих стихов, живет так исправно, что совесть ни в чем его не зазирает когда другие теснят его за верность закону, онне уклоняется от него; когда видит других не хранящими его, снедается, — какое же нужно еще доказательство любви к закону? И однако ж, он говорит.Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, и говорит это Тому, о Ком знает, что пред Ним все открыто. Что же он хочет выразить этим? То, что он не внешний только законник, а сердечный. «Не просто говорит, поясняет блж. Феодорит, — соблюдал я заповеди, но возлюбил их, хотя ничто не принуждало меня к исполнению их». Я люблю не одни дела по заповедям, а самую чистоту нравственную, требуемую ими, самое совершенство жизни, изображаемой ими; люблю не одни дела смирения, но и.самое смирение; не одно воздержание от порывов гнева и нечистоты, но и самую кротость и целомудрие; не одни дела милосердия, а самую милостивость и проч. А что Богу говорит пророк:виждь, — то этим хочет выразить лишь то, что говорит так не легкомысленно, не по самомнению присвояя себе то, чего нет, а по освидетельствованию себя, при свете всевидения Божия, что вседушно любит заповеди Божии. Такое расположение и есть начало, из которого должна исходить добрая нравственность, — это любовь к заповедям ради любви к тем добродетелям, которые они внушают. Потому-то, когда, вслед за сим, пророк молится:Господи, по милости Твоей живи мя, — то выражает этим не иное какое желание, а именно то, чтобы Господь продолжал жить в нем и, живя в нем, оживлял его. Господь — источник жизни, и куда Он пойдет, там разверзаются потоки жизни сладостной и всеблаженной. Испытавший это, когда молится: живи мя, то выражает этим: не отходи от меня, — веруя, что лишь бы не отошел Господь, то и живительность от Него будет источаться сама собою. Господь охотно пребывает в сердце, полном добротолюбия и самых доброт, но не связан тем, а свободно присещает. Присещает и отходит, когда и как Ему угодно. Но когда отходит — мрак и холод в сердце. Потому и нельзя не молиться: не лишай меня, Господи, милости пребывания Твоего во мне, но непрерывно живи мя, по милости Твоей.
Пс.118:160
Если все словеса Божий представить под видом тела, то глава сего тела —истина. Если представить эти словеса под видом кодекса, то заглавие ему или надпись — истина. Убеждение, что все словеса Божии, определяющие достодолжный образ жизни нашей, суть непреложно истины, служит основанием жизни по сим словесам. Посему нельзя не держать в мысли и сердце, что одно из двух неизбежно-, или жить по слову Божию, или обречь себя на вечную пагубу, — вечную, потому что во век вся судбы правды Божией, то есть сила решений Божиих, праведно определяющих, посредством заповедей, как следует нам жить, простирается на всю вечность. Сознав же такую неминучесть, можно ли еще раздумывать и колебаться, какою идти дорогой? Враг знает силу этих убеждений, а потому все усилие употребляет к тому, чтобы рассеять их. Помнящий же заповеди и носящий убеждение, что они непреложны, стоит не колеблясь. Кругом волны, а он словно на утесе.— около ветры бушуют, а он как в уютной комнате. И враг ничего с ним не может поделать. Весь мир, которому мы и пределов не знаем, стоит на судьбах правды Божией, но стоит не сам собою: держит его в этом всемогущая десница Божия. А так как он не сам собою стоит, то и отступать от этих судеб сам собою не может. Мы же свободны: нам надобно свободно подчинить себя этим судьбам и держать себя в них, чтоб войти в соглашение и гармонию со всею совокупностию тварей.
161. Князи погнаша мя туне и от словес Твоих убояся сердце мое. 162. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. 163. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. 164. Седмерицею днем хвалих тя о судбах правды Твоея. 165. Мир мног любящым закон твой, и несть им соблазна. 166. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. 167. Сохрани душа моя свидения Твоя и возлюби я зело. 168. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи.
Это осмистишие означается буквою или словом шин, что значит зуб. Зубы в животном царстве служат орудием защиты и питания, а у людей, сверх того, помогают говорению. Человека, ходящего в законе Божием и окруженного неприязнию против сего хождения в законе, прежде всего можно спросить: чем же дано ему защищаться против сей неприязни? На сей вопрос пророк и отвечает в выписанном осмистишии так во-первых, страхом нарушить словеса Божий в законе (ст. 161), затем — надеждою благ от исполнения закона (ст. 162), любовию к сему закону (ст. 163), — вот эти орудия духовные отражают всякое движение, противное словесам Божиим. К ним, в конце, пророк присоединяет хождение пред Богом (ст. 168), которое еще крепче тех трех, и даже им самим придает силу. Это — зубы его. А чем занята речь у того человека? Богохвалением, именно, за блага, истекающие от судеб правды Божией (ст. 164). Чем питается он? Теми благами, какими исполняется душа его от исполнения заповедей (ст. 165—167). Таково содержание сего осмистишия.
Пс.118:161-163
По переводу с еврейского 161-й стих читается так «Князья гонят меня безвинно; но сердце мое боится слова Твоего». Говоря о гонениях со стороны князей, пророк разумеет здесь, очевидно, то гонение, которое воздвиг против него Саул с его приближенными, когда они гонялись за ним по пустыне, и когда Саул не раз попадался в руки Давида и не был им умерщвлен потому только, что страх Божий связывал не руки только, но и помышления сердца Давидова. Они прогнали, говорит, меня и гонялись за мною, но совершенно напрасно: мне это не было страшно. Князи погнаша мя туне: и от словес Твоих убояся сердце мое. Сердце мое только словес Твоих, Господи, боялось и тем удерживалось от всякой неправды и от всякого злого дела. Страх Божий естествен духу нашему и всегда живет в сердце. Страсти подавляют его и заглушают, но не уничтожают. Лишь только повеет благодать Божия на сердце, страх первый тотчас оживает и воздвигает с собою совесть. Потом они вдвоем производят, под действием благодати, покаяние и обращение грешника от греха к добродетели, и далее они не держат его на этом новом пути, не оставляя его до последних степеней совершенства в новой жизни. Страх Божий всюду предводительствует. Пусть гонят внешно, пусть подымаются внутри волны помышлений злых, но когда цель — страх словес Божиих, то нечего бояться. Не Сам ли Христос Спаситель наш сказал: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити: убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити в геенне» (Мф. 10:28)? Береги же страх Божий и не бойся падений. Страх этот сильнее страха смерти. И не забывай, вместе с Святой Церковию, молиться так. «Страх Твой, Господи, всади в сердца раб Твоих и буди нам утверждение, Тя во истине призывающих» (Октоих. Глас 8. Канон, песнь 3). Внимательное и благоговейное отношение пророка к Слову Божию возбуждает в сердце его не только страх Божий, но и радость (ст. 162), которую он сравнивает с радостию людей, приобретающих большую корысть при своих занятиях Это чувство радости он выразил такими словами:Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретали корысть многу, то есть (пер. с евр.): «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Прибыль, или корысть, пророк разумеет, здесь, конечно, не вещественную, а духовную, какая может быть получена и получается от поучения в Слове Божием. Блж. Феодорит так рассуждает о сей корысти: «Упомянув о врагах-гонителях, прилично упоминает при сем о корыстях. Ибо корысти составляются на войне из того, что было у павших мертвыми, как-то: оружие, одежды и другие вещи и украшения, что достаются победителям. Он говорит, что я не столько радовался бы все добычам, какие получил по истреблении гонителей своих и взял у них множество собранных ими добыч, сколько радуюсь о Твоих законах, доставляющих мне сокровища познания» . Человек ощущает сладость от всякого добродетельного дела и от всякого подвига, подъемлемого ради такого дела. Высшее благо в этом случае — мир совести. Само сердце ничего не ставит выше его после того, как он возвращается, быв потерян на время нерадивым невниманием к себе. Второе благо — стройность в делах, и внутри, и вне. А отсюда само собою вытекает и третье благо — благопоспешност. Довольно и этих трех, чтобы всякому добродетельному взывать искренно: Радуюсь словесам Твоим, Господи, как обретающий от них корысть многу! Выразив свою радость по отношению к словесам Божиим, которые оказывали на него столь благодетельное влияние при исполнении закона Божия, пророк уже не может удержаться, чтобы не выразить свою любовь к сему закону и те чувства, какими исполнена была душа его в отношении к неправде и беззаконию» Он так выражет эти чувства (ст. 163):Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. Когда вселяется в сердце любовь к одному предмету, то к предметам противоположным ему уже не может быть там любви, а занимает место противное ей чувство — не любовь, а омерзение и ненависть. В обычных вещах, может быть, и не неизбежна такая противоположность чувств, но в отношении к закону и беззаконию иначе и быть не может. Ибо и беззаконие туда же лезет, силится занять сердце, уже занятое законом. Как от какого-либо нахала, лезущего к вам в комнату, вы избавляетесь, толкая его в грудь, так и от беззакония, навязчиво лезущего к вам в сердце, вы не иначе избавитесь, как толкнув его в грудь, т.е. поразив его ненавистию и омерзением.
Пс.118:164
Выразив свою любовь к Слову Божию и к закону Господню и, вместе с тем, презрение к неправде и беззаконию, пророк свидетельствует, что он устремил все внимание свое на богохваление. И чем больше устремлял он взор свой к единому Богу, тем более раскрывалась пред ним слава Его, дивного в бытии Своем, в свойствах Своих и в действиях — в творении, промышлении, искуплении и устроении спасения каждого спасаемого. Созерцая это, он переходит от изумления к изумлению и, при каждом предмете созерцания, ничего не может изречь, кроме славословия: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И между этими предметами созерцания пророк останавливается на судьбах правды Божией, ради коих он хвалит Бога и под которыми разумеет праведные суды, присуждения и определения Божий, как чему быть и как что было уже и бывает на деле. Воспоминая это, пророк не может удержать языка своего от восхваления Бога, дивного в судьбах Своих, и седмижды, или многократно, в день хвалит Его. Св. Афанасий Великий пишет: «Как изучивший законы творения и промышления Божия, исповедается он о судьбах правды Божией, о тех судьбах, по которым Бог создал разнообразные твари и промышляет о каждой из них. Словом седмерицею дает разуметь, что не перестает он хвалить, говоря как бы так всегда памятую судьбы Твои». Неудержимо стремится душа его к богохвалению.
Пс.118:165-167
Когда мы возлюбили закон, значит он в сердце у нас. Если же он в сердце, то там уже нет страстей, ибо каждая заповедь закона, быв возлюблена, вон изгоняет противоположную ей страсть, а все — изгоняют все страсти. Таким образом, в сердце, возлюбившем закон, нет уже места страстям, и оно пребывает в покое, или во многом мире. Мир, значит, есть плод бесстрастия, бесстрастие же восстановляет человека в естественный его чин и в первоначальное соотношение его со всем сущим. И от Бога, и от мира ангельского, и от мира человеческого, и от природы идут к нему непрерывно благотворные влияния и воздействия и питают все его естество: и тело, и душу, и дух; питая же, удовлетворяют всесторонне, а удовлетворяя, водворяют мир, который, по причине такого удовлетворения благотворными влияниями, есть сладостный и многопитательный мир. Чем глубже мир, тем, значит, больше прибыло питательности. И несть таковым соблазна. О соблазне (греч. , лат. scandalum) и у нас говорят: произвел скандал, т.е. наделал шуму. Таким образом, говоря, что любящим закон нет соблазна, пророк этим дает разуметь, что закон, возлюбленный ими, переполняет их таким глубоким миром, что ничто не может нарушить внутреннего их покоя. Блж. Феодорит пишет. «Воспламеняемые божественною любовью и хранением заповедей приобретающие мир с Богом, хотя вооружились бы на них все люди, живут в веселии. Свидетель этому божественный Павел, который взывает. «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор.4:8-9). И Господь, посылая апостолов по всей вселенной, «как овец посреди волков» (Мф. 10:16), сказал им: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Вместе с миром в сердце возлюбивших закон Божий вселяется упование спасения (ст. 166). Возложив все упование на Господа Бога, они остаются в несомненной надежде и в полной уверенности, что спасение их устроено будет всеконечно, как ведает премудрость Божия и Его бесконечная благость. Это самое и выражает пророк словами: Чаях спасения Твоего, Господи, а для сего я положил верно, от искреннего сердца исполнять заповеди закона Твоего, — и заповеди Твоя возлюбих. «Чаяние спасения, — говорит св. Амвросий, — породило любовь к заповедям, деятельная любовь к заповедям стала опорою упования, упование успокоило в Боге». Таким образом, и мир, происходящий от любви к закону, и успокоение в Боге, основанное на уповании спасения, — все это служит источником для питания душ, предавших себя всецело в руки Отца Небесного, из рук Коего никто их не восхитит, как уверяет Сам Спаситель: «Отец Мой болий всех есть, и никтоже может восхитити» овец Моих «от руки Отца Моего» (Ин. 10:29), Но есть и еще источник духовного питания, получаемого от исполнения заповедей, — это самая любовь к ним (ст. 167). Когда мы питаемся известною пищею, то питательную стихию, сокрытую в ней, извлекает из нее наша органическая сила. Так и питательная духовная стихия сокрыта во всяком добром предлежащем нам деле. Это мера приложимой к нему заповеди. Извлекает эту стихию из него любовь к заповеди, которая и дает ощутить присутствие ее в том деле, извлечь питательность ее и привлечь ее к себе в самом совершении дела. Только любовь к заповедям и может, и умеет так делать. Потому-то пророк и говорит сначала:Сохрани душа моя свидения Твоя, а потом: и возлюби я, и не просто возлюби, новозлюби я зело. Начинай же хранить заповеди и свидения Божий, и не только начинай, но и продолжай хранить их со всеусердием и самоотвержением, — скоро найдешь вкус и полюбишь их, полюбишь крепко (зело).
Пс.118:168
Здесь пророк снова возвращается к средствам защиты и охранения богоугодной жизни по заповедям и, как на главнейшее из них, указывает на сознание вездеприсутствия и всеведения Божия. Это как бы следствие предыдущих его размышлений. Страх нарушить заповеди и чаяние спасения от исполнения их приводят к любви. Возлюбивший заповеди не может не возлюбить и заповедавшего, а возлюбив, не может уже забыть Его, и неотступно носит память о Нем в сердце своем, ибо таково свойство любви. С любовию памятующий о Боге всегда имеет Его пред очами своими, сам ходит пред Его очами и сознает себя во всех путях своих и начинаниях открытым пред Ним. Пророк не раз исповедал это, а здесь он удостоверяет, что, сознавая, как все пути его открыты пред Господом, он строго исполнял все заповеди Его: Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко еси путие мои пред Тобою, Господи. Вот почему и все св. подвижники имели, и других учили иметь, первым делом установление в себе памяти о Боге, так, чтобы она слилась с сознанием, что и называли они хождением пред Богом, ибо после этого что ни делал бы человек, не может делать того иначе, как с мыслию, что Бог пред ним — и смотрит, что и как он делает.
169. Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. 170. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему избави мя. 171. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. 172. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. 173. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. 174. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. 175. Жива будет душа моя и восхвалит Тя: и судбы Твоя помогут мне. 176. Заблудих яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедий Твоих не забых.
Это последнее осмистишие. Оно идет под буквою тав, которая означаетзнак, или примета. Пророк указывает в нем приметы, по которым можно определять, стоит ли кто на добром пути и идет ли по нему, как должно; это самое благопотребное заключение всех его нравоучительных наставлений. Содержание каждого стиха укажет нам, что именно хотел выразить пророк в этих наставлениях.
Ст. 169. У многих св. отцов, руководителей в духовной жизни, можно встретить урок — не доверять своему уму. Это значит, если ты при каждом деле, не доверяя себе, ищешь вразумления от Подателя всякой премудрости, то правым путем идешь. Поступая так, ты подражаешь пророку, который так молился Богу: Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. Вразуми, научи т.е., как понять что-либо из встречающегося в жизни или в Писании или как поступить в предлежащем случае. Ум наш ограничен вообще, часто бывает малоразвит и слаб в размышлении, а потому в недоуменных случаях, и не столько по любопытству, сколько по существенной необходимости, можно обращаться, как иногда и обращаются некоторые из нас, к умнейшим и опытнейшим нас, но и их мера благоразумия и чуткости совести не безмерна, и доверие к ним не безусловно. И потому во многих случаях нельзя не обращаться к Источнику разума с молитвою о вразумлении; а еще лучше, — чтобы не было никаких колебаний и недоумений, во всех вообще случаях, без различия, — нам нужно обращаться с молитвою о вразумлении к Богу, несмотря на устремление деятельности своего ума и даже кажущееся постижение им существа дела. Тому, у кого сердце очищено от страстей и кто имеет обновленный дух (Пс. 50:12), недолго ждать вразумления свыше: лишь только взыщет, тотчас и получит, ибо Господь близ (Пс. 33:19). По очищении сердца от страстей, Святой Дух вселяется в него, Дух Божий, ведающий глубины Божий; тогда, по слову апостола, само помазание от Святого Духа учит (1 Ин. 2:20,27).
Пс.118:170
Человек, которого теснят как-либо или вяжут, обыкновенно ищетизбавления. Нет никого, кто каждую минуту не находился бы в том или другом стесненном положении, но не все одинаково держат себя в нем. Одни надеются устранить все тесноты и распутать все узлы своими способами, и потому ограничиваются ими одними; другие своим способам не дают никакой силы, и хоть не чуждаются их совсем, но прочного избавления чают от единого Бога, потому благонадежной обращаются к Нему во всех случаях — и больших, и малых. Вот эти-то одни и действуют право. Что для ума недоразумения, то для жизни — тесноты и узы. Недоумения ума разрешаются вразумлением, узы и тяготы жизни — помощию свыше. Неведомо, так раздвигаются тесноты и устраняются препоны, «стропотная» бывают «в правая», а «острая в пути гладки» (Лк. 3:5). Мановению Божию все покорна. Покорись же и ты всецело Господу, — и всякое избавление будет тебе готово. «Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и... с ним семь в скорби, изму его и прославлю его» (Пс. 90:14-15), — говорит Господь. В силу этого и учит пророк обращаться с молитвою об избавлении: по словеси Твоему избави мя, предъявляя сим не право на избавление, а оживляя лишь упование свое пред Всевидящим. Взыскание вразумления и избавления посредствуется у пророка приближением и вхождением молитвы пред лице Господа: Да приближится моление мое пред Тя…да внидет прошение мое пред Тя. Это так же состоит в числе признаков преуспеяния. И такая молитва, уже по свойству своему,приближается к Господу и входит пред Него.
Пс.118:171
Отрыгнут — от слова отрыгнути (греч. , eructare, изрыгать, извергать — в переносном значении — изречь, произнести). Само собою, без всякого напряжения и предварительного обдумывания, отрыгнут устне мои пение, т.е. «уста мои произнесут хвалу» (по пер. с евр.). Зародившаяся в сердце песнь Богу исторгается устами и понесется на небо. Это — песнь славословия, благодарения и всякой молитвы. Такое состояние обнаруживается у человека-подвижника святой жизни тяготением внутрь, бывающим во время молитвы, чтения, размышления, и даже без всего этого, так — за делом каким. Это и значит, что человек, испытывающий все это, далеко прошел по пути к совершенству. Св. Исаак Сирианин так описывает это состояние: «По временам во все тело входит какое-то услаждение и радование, плотской язык не может выразить этого. Иногда услаждение это истекает из сердца в час молитвы или во время чтения, или вследствие напряженности мысли. А иногда бывает оно без всего этого, во время поделил, и по ночам, когда находишься между сном и пробуждением, как бы бодрствуя — и не бодрствуя. Но когда найдет на человека это услаждение, бьющееся в целом теле его, тогда думает он в тот час, что и Царство Небесное не иное что есть, как это же самое». Как после этого не отрыгнуть пения устам того, кто бывает в таком состоянии? Но надо знать, что оно не есть плод одного молитвенного труда, а следствие всей богоугодной жизни и всех трудов доброделания и подвижничества, и обнаруживается тогда, когда сердце начинает приближаться к чистоте. Пророк указывает на это в словах: егда научиши мя оправданием Твоим. Оправдания — заповеди. Научение им разумеется, — не заучивание на память писанных заповедей, а деятельное навыкновение в них, подобно тому, как навыкают какому-либо мастерству. Когда это бывает, тогда заповеди вселяются в сердце и составляют постоянный строй, заправляющий всеми движениями доброделателя.
Пс.118:172
Врачи по языку узнают состояние здоровья телесного, а речь говорящего обличает состояние его здравия душевного. Умные речи показывают умного человека, речи благочестивые — человека богобоязненного, а развратные — развратного. Чем у кого душа болит, тот о том и говорит. Если язык твой усладительно ведет речь только о словесах Божиих, то это знак, что о них болит душа твоя, т.е. любит их, желает исполнять сама и видеть исполнение их и от других. Это и естественно: когда ты возлюбил словеса Божии, то и речь ведешь только о них, ибо «от избытка сердца уста глаголют» (Мф. 12:34), и удержать их нельзя, чтоб не говорить о них Но сюда должны привзойти еще и другие побуждения, именно — благодарение Богу и любовь к братиям. Пророк еще в покаянных чувствах говорил: «Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся» (Пс. 50.15). Каясь, он дает обет, что не только сам всегда будет ходить путями Божиими, но и других станет научать тому же, ибо в размножении числа ходящих этими путями и состоит слава Бога, учредителя и указателя путей тех. Если еще в пору покаяния он воодушевлен был так, то умолчит ли, получив разрешение и очищение? В том ли, в другом ли расположении, но словеса Божии провещаются языком по доброжелательству к братиям своим. Испытав на деле, что грех вяжет, а заповеди дают свободу, и притом в многообразных отношениях, — кто удержится, чтоб не возвещатьдругим, где путь и где распутие? Пророк и провещает языком словеса Божии, потому что все они правда. Хочешь жить настоящею жизнию — живи, как заповеди велят, ибо всякая другая жизнь — не жизнь. Если провещание словес Божиих есть хороший признак, то молчание о них есть признак худой, а речи, противные им, признак наихудший. Где говорят будто научно, но не по-Божьему, где говорят все о пустом, и тем паче о срамном и грешном, там и говорящие, и слушающие, очевидно, отчуждились от словес Божиих, а чуждые словес Божиих чужды и Богу, возвестившему их.
Пс.118:173
В этом стихе выражено полное дерзновение пророка, с которым он молитвенно обращается к Богу о своем спасении и в то же время выражает свою всецелую преданность в волю Божию, заключающуюся в заповедях Его.Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих, т.е. нет у меня другой воли, другого желания, кроме того, чтобы ходить в заповедях Твоих. Я весь Твой (см. ст. 94), а потому благоволи, да будет рука Твоя всегда со мною,во еже спасти мя. Дерзновение к Богу — сладостное чувство, но оно небозможно при нечистой совести. Дерзновение входит пред самое лице Божие, а обремененная совесть тяготит долу. Став пред Бога, как воззреть на лице Его, если где-либо внутри кроется что-нибудь не изволяющее заповедям Его: ведь пред Богом все открыто, и представшая пред лице Его душа ясно сознает это. Таким образом, дерзновение к Богу истинное, не притворное, искреннее есть знак великой чистоты нравственной. Оно не надумывается, а само собою возникает в сердце, вследствие трудов по исполнению заповедей и приобретаемой чрез то чистоты сердца. Приступание к Богу в молитве и самое молитвословие есть уже показание дерзновения, но не всякий молящийся или молитву деющий есть уже дерзновенен, как «не всякий глаголяй: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй волю Отца, Иже есть на небесех» (Мф. 7:21). Молимся, уповая, но дерзновение есть высший плод упования, хоть оно вместе с ним и зачинается и зреет.
Пс.118:174
И по выражениям, и по мыслям своим, стих сей имеет большое сходство с предыдущими стихами 81 и 166. И там, и здесь пророк выражает сильноежелание спасения, получить которое он надеется за исполнение заповедей, за ревностную любовь к закону Божию и за непрестанное поучение его в сем законе. Возжелание спасения Господня и непрестанное поучение в законе, и в этом стихе, и в обоих вышеуказанных, выражают одно — горячую ревность о спасении, чрез верное исполнение заповедей. Эта ревность есть движущая сила к богоугодной жизни по заповедям. Пророк, можно сказать, достиг того, чего он желал и чего надеялся: он уже живет тою жизнию, к которой стремился с такою ревностию, закон составляет руководительное начало его жизни: закон Твой, Господи, говорит он, поучение мое есть. Иметь такую ревность о спасении и такую любовь к закону — и значит крепко стоять на пути спасения, с полною преданностию в волю Божию.
Пс.118:175
Прежде пророк умолял Бога (ст. 77 и 88), чтобы оказал и сохранил жизнь его, а теперь самоуверенно говорит: Жива будет душа моя, — какою уверенностию дышет это слово! Ни тени колебания. Господь сказал: Иди вслед Меня, по заповедям Моим, — и спасешься, получишь покой и жить будешь во веки. Поверил человек и идет, говоря в себе ко Господу: верую, Господи, что так оно будет: Жива будет душа моя и восхвалит Тя. Он уже там душею своею — на месте достижения цели — и, как обретший уже искомое, хвалит Господа. «Будет так, как обетовал ты, Господи: вниду в покой Твой и вечно буду прославлять имя Твое». Но питая такую уверенность, не на себя опирается он, а на всесторонней помощи Божией или на вседействии Божием в душах, всецело Ему преданных. И судбы Твоя помогут мне. Так Сам Бог обетовал: «С ним есмь Аз, изму его и прославлю его: и явлю ему спасение мое» (Пс. 90:15-16). Несомненность спасения питается и держится тем, что путь спасения учрежден Богом, и Им Самим, Спасителем нашим, пройден в естестве человеческом. Прошедши этот путь и пребывая в славе, Спаситель взывает: «Идите сим путем, и все тут же будете». Кто, веруя сему и видя это, поколеблется недоумением? И не колеблются: всякий питает уверенность, что жива будет душа его, если, не блуждая, пройдет путем, на который вступил по указанию Божию.
Пс.118:176
Пророку, принесшему Богу искреннее покаяние и так много преуспевшему на пути спасения, казалось бы неуместным взывать так: взыщи меня, я погибшее овча! Но то-то и дивно в деле спасения, что чем более кто преуспевает в нем, тем более видит себя уничиженным и худым, так что, идя к лучшему, он будто все более и более погружается в худшее и видит себя непотребнейшим, хоть и не отчаивается в своем спасении. У св. Антония Великого замечено, что Сам Бог закрывает преспеяние от глаз преуспевающих и внешним уничижением их, и попущением внутренних нестроений, при виде которых не могут они не исповедать того, что «никуда не гожусь я», — и не вопиять мытаревым гласом: «Боже, милостив буди мне грешному» (Лк. 18:13). Такое смиренное и уничиженное исповедание и есть самый верный признак доброго течения и преуспеяния. «В чем же, — говорит св. Афанасий Великий, — преуспел пророк, если снова говорит о себе, что он — овча погибшее? В том, что соблюл смиренномудрие, по сказанному; «Егда сотворите вся поведенная вам, глаголите, яко раби неключимы есмы» (Лк. 17:10) . На чем же стоит упование спасения, когда так глубоко сознание непотребства у самых великих преуспевателей? На сознании, что они не забывают заповедей Божиих. Всякий такой, исповедуя, что никуда он негож, вместе с тем, не ложно свидетельствует, что знает заповеди, сознает полную обязательность их для себя и то, что со времени обращения своего никогда не дозволял себе сознательно нарушать даже малейшую из них. Это сознание и дает смелость надеяться, что он хоть и никуда негож, но Многомилостивый, по милости Своей, не бросит его, а взыщет, как овцу погибшую и, взяв на рамо Свое, принесет в место спасения. Из всего этого видно, какое благоприличное заключение всего псалма составляет этот стих! Он возводит на самый верх нравственного совершенства, указывая его, однако ж, не в самовосхвалении или присвоении себе чего-либо, а в самоуничижении и невидении в себе чего-либо достойного. Раб неключимый, овча погибшее — вот воззвания истинных рабов Божиих, приятные Богу и привлекающие Его благоволение! Блаженный Феодорит так заключает истолкование сего многообъемлющего псалма: «Сделав краткое изъяснение псалма сего, мы просим читающих не довольствоваться написанным и не думать, что только это и принадлежит пророку, то есть только это и хотел сказать пророк Напротив, пусть каждый извлекает то, что ему, собственно, на пользу и пусть уготовляет себе предохранительное врачевство от своих собственных недугов» . Нечто подобное сему пишет и блж Августин: «Сколько сил моих было и сколько помог мне Господь, я истолковал сей великий псалом. Мудрейшие и ученейшие меня, конечно, лучше сделали уже это или сделают.— но это не должно было освободить меня от посильного служения делу сему, и особенно, когда братия мои усильно к тому побуждали меня» . К этим кратким замечаниям блж отцов Феодорита и Августина не только не излишне, а весьма важно присовокупить такое же краткое слово свт. Феофана, автора того толкования сего псалма, которым, по силам своего разумения, могли воспользоваться и мы, и на которое указано в предисловии к нашему объяснению сего псалма. Вот слова святителя Феофана: «Если им (блж. Феодориту и Августину) можно было такими словами заключить свое толкование, то тем более пригоже это мне. Прошу, притом, извинить многократные повторения одних и тех же мыслей. При всем желании, нельзя было этого избежать, потому что по длительности времени, естественно забывалось написанное прежде и, при новом приеме за дело, старое казалось новым. Утешаюсь тем, что любящим истину такое повторение не наскучит, потому что дает то, что любезно и что приятно, как приятно встречать друга, сколько бы раз ни приходилось это».
Возможно, путь Алексея в Оптину был бы более длинным, но Господь «ими же веси судьбами» этот путь сделал более прямым и быстрым. Юноша искал вразумления в молитве и ждал более ясного указания воли Божией, что и случилось. И случилось, как и всегда, незаметно и естественно: как Илии Господь явился не в грозе и буре, а в тихом веянии ветерка, так и здесь воля Божия о поступлении его в обитель приблизилась в обычных обстоятельствах его жизни.
Алексей заболевает туберкулёзом, в те времена, болезнь эта считалась смертельной. С ним вместе заболели два товарища-чиновника. И юноша дал обет: в случае выздоровления поступить в монашескую обитель. Товарищи его скоро оба умерли, а будущий Опинский старец поправился. По выздоровлении он отказался от службы. «Любящему Бога всё поспешествует ко благу» , и вот уже Алексея с любовью принимает в 1853 году настоятель и старец Оптиной, преподобный Моисей.
Благословенна ты, добрая женщина, на такой хороший путь отпустила сына!
Родители благословили молодого человека на иноческий путь, было ему в то время двадцать девять лет. Образованный, благонравный, кроткий и старательный, он был принят с любовью отцом архимандритом Моисеем. Старец Макарий сказал матери будущего инока: «Благословенна ты, добрая женщина, на такой хороший путь отпустила сына!» С этого дня преподобный старец Макарий стал руководить духовной жизнью молодого послушника. Он полюбил его и сам обучал Иисусовой молитве. Молодой послушник уходил далеко в лес и молился там в уединении.
Тесный путь испытаний и тягот
Духовное созревание происходит по-разному, и Господь сам промышляет о своих избранниках. Только через десять лет, в 1862 году послушник Алексей был пострижен в мантию с именем Анатолия. Со временем, предчувствуя приближение немощей и кончины, отец Макарий благословил его обращаться за советом к преподобному старцу Амвросию. Так что к этому времени он был уже на послушании у преподобного Амвросия. И был одним из самых первых его учеников.
Эти десять лет были очень трудны для молодого послушника. Старец Макарий прозревал дары будущего старца и вёл его тесным путём испытаний и тягот, чтобы закалить подвижника и создать в нём доброе иноческое устроение.
Алексей был очень аккуратным и любил чистоту, а его, дабы не привязывался к суетному и материальному, постоянно переводили из кельи в келью, воспитывая странническое устроение. Старец Амвросий говаривал: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть одной точкой касается земли, а остальным стремится вверх; а мы, как заляжем, так и встать не можем» . Поселят Алексея в келию, он там приберётся, наведёт чистоту и порядок, расставит свои любимые духовные книги. И его тут же переведут в новую келию, и нужно начинать всё с начала. Он смирялся, не возражал. Брал свои скромные пожитки: иконочки, войлок, книги и переходил на новое место жительство.
Но и это послужило к приобретению опыта. Позднее, в письме к одной из своих духовных воспитанниц, о. Анатолий сможет найти для монахини, искушаемой теми же неудобствами слова утешения: для того посылается это, чтобы помнила душа о том, где дом ее настоящий, вечный, и стремилась к Отечеству небесному. А «наградой» за терпение иноку стало окормление у великих оптинских старцев.
Все трудности терпеливо переносил инок и всемерно старался исполнять все наставления старцев. Согласно их наставлениям он не только не ходил по чужим кельям, но и к себе никого не принимал. Один новый обитатель скита, из военных, как-то очень расположился к отцу Анатолию и хотел побывать у него в келии. Приносил ему варенья, уговаривал, но тот, однако, никак не согласился нарушить старческую заповедь не ходить по кельям и не принимать гостей.
Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что он видел послушников, которые целый день проводили на послушании, в работе, а потом, став на молитву, исполнялись Божественного света. Эти слова сбывались на молодом послушнике. При его слабом здоровье ему пришлось выполнять тяжёлое послушание на кухне. Эти физические труды были непривычны, а для отдыха оставалось совсем мало времени. Спал он мало, да и то на кухне, прямо на дровах.
Уроки терпения
Потом Алексею пришлось жить в башне. Сначала он жил с иноком отцом Макарием (Стручковым), а потом с другим сорокалетним иноком, который не признавал старчества. От непривычки мало спать, от неудобных помещений и непривычных трудов, у молодого послушника стала очень болеть голова. Иногда целыми днями лежал он с больной головою, и некому было подать ему воды; часто оставался и без пищи, когда на трапезу ходить не мог. А внизу в башне было место, где кололи дрова. Этот стук ещё более отягощал положение больного.
Нередко приходил он к отцу Амвросию; тот занят и его не принимает, и уходить не велит. Урок терпения выдерживал инок, но часто за то возвращался к себе уже за полночь; а не успеет лечь, как уже будят к утренней службе. После чёрных послушаний ему дали было послушание клиросное, но недолго был он тут. Когда он стал петь на клиросе, его как высокого, чтобы не закрывал нот, выгонял регент за клирос. Велел оттуда смотреть и петь, и Алексей слушался. Затем регент-простец осердился на нового певчего, что тот порою, как знаток пения, делал ему деловые указания, и пожаловался на него отцу настоятелю.
Алексея и отправили на кузницу. Тяжело было ему на этом послушании; скамеечка была маленькая, узкая и короткая, а он был высокого роста. Ляжет, закроет голову свиткою, ногам холодно; ноги накроет, голове холодно. Путём этих мелких по-видимому, но очень тяжёлых огорчений вырабатывался в молодом послушнике дух смирения и терпения, кротости и твёрдости духа.