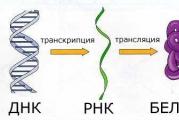Шапиро что значит. "Два мира – два Шапиро": откуда взялось это выражение и кто такой Шапиро
Два мира, два Шапиро
Вот давняя история или легенда.
Однажды в 40-х – корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.
– У вас пожар, – сказал ему Генри.
– А кто это говорит? – спросил Соломон.
– Шапиро.
Советский Шапиро решил, что его разыгрывают и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет – коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро.
Шутка эта приходит на ум мне всякий раз, когда я вижу разницу в образе жизни двух миров. Разница была и осталась огромной. Несмотря на перестройку, конверсию, приватизацию, частное предпринимательство и прочие подобные вещи. Советская система рухнула, но советский человек остался советским человеком, он живет и действует по-советски. Переходя к рыночным отношениям, он надеется на то, что скоро станет миллионером но не понимает того, что для достижения подобной цеди надо работать и жить не так, как раньше.
Как-то пришел ко мне один новоиспеченный частный издатель. Раньше он работал в большом государственном издательстве и меня, как диссидента, не печатал А теперь, став начинающим капиталистом, явился с улыбкой до ушей и надеждой заработать на мне кучу денег. Разумеется, я от него услышал, что он мой давний и страстный поклонник и ночи не спит, мечтая, чтобы моя книга в самое ближайшее время массовым тиражом вышла в его издательстве. Мы быстро обговорили условия, ударили по рукам и он удалился, сказав, что завтра ровно в десять утра явится ко мне с договором. Завтра он не явился. Послезавтра тоже. На следующей неделе я сам позвонил ему. Секретарша ответила: «Его нет» и бросила трубку. Я набрал тот же номер в третий раз: «А когда завтра?» Секретарша: «В четыре часа» – и бросила трубку. Мне пришлось пять раз звонить, а ей пять отвечать, чтобы выдать информацию, укладываемую всего в одну фразу. Завтра я четырежды соединялся с той же секретаршей, чтобы услышать, что ее шеф еще не пришел, и дважды, чтобы узнать, что он уже ушел. Я думал, что он пропал насовсем, но через месяц он явился, как обещал, с договором. И был очень удивлен, что я уже отдал книгу другому издателю, который обещал мне напечатать ее к концу прошлого года. Впрочем, с тем, другим, тоже ничего не вышло. В начале этого года выяснилось, что у него нет бумаги, картона, клея, краски и чего-то еще, из чего делаются книги. Теперь появился третий издатель, который обещает меня издать к концу текущего года. Мой приятель, опытный человек, советует на столь длительный срок не соглашаться, требовать издания в течение двух месяцев. «Тем более, – сказал приятель, – что он тебя все равно не издаст никогда. Но – зато ты узнаешь об этом через два месяца, а не через восемь».
Отвыкнув от советского образа жизни, к нему трудно приспособиться снова. И трудно понять, почему, несмотря на переход к рыночным отношениям, свободное такси не останавливается, официант уговаривает вас пойти в другой ресторан, в билете на поезд вам отказывают, а он отходит от станции полупустой. Всюду нечеткость, необязательность и нелюбезность, очень большое желание "меть деньги и очень большое нежелание их зарабатывать. От клиента, несущего деньги, все отбиваются, как от врага.
Пришла мне пора постричься. Зашел в парикмахерскую, только что приватизированную. Ну, думаю, частный бизнес, тут уж меня обслужат по высшему разряду. В коридоре за столиком сидит дама в очках и решает кроссворд. Иду мимо. Она меня останавливает: «Вы куда?» «Постричься». «Мужской зал не там, а там». Иду туда. Там под портретом Сильвестра Сталлоне в единственном кресле для клиентуры молодая парикмахерша старательно красит губы. Мне кажется, от этого процесса женщины обычно получают удовольствие, но на ее лице удовольствия не видно. Поворачивается ко мне и, не отрывая помады от губ, смотрит вопросительно.
– Здравствуйте, – говорю я ей.
– Здравствуйте, – печально отвечает она, предчувствуя нехорошее. – Что вы хотите?
Слегка удивившись вопросу, я объяснил, что в парикмахерскую прихожу обычно, чтобы постричься, а не для чего-то еще. Выслушала без улыбки.
– А у вас талончик есть?
– Какой талончик?
– Талончик на обслуживание.
– А разве нужен талончик?
– Да, нужен.
– А где его взять?
– В коридоре, у кассирши.
Возвращаюсь в коридор, к даме в очках.
– Оказывается, там нужен талончик.
– Да, нужен.
– А почему же вы мне сразу не сказали?
– А вы меня не спросили.
– Ну, хорошо. Дайте мне талончик.
– А какой именно?
– А какие у вас есть?
– Это зависит от того, как вы хотите постричься, хорошо или плохо.
– Вы знаете, я еще не видел ни одного человека, который хотел бы постричься плохо. – Если вы хотите хорошую стрижку, это будет стоить сорок два рубля.
Называя столь высокую для советского человека цену, она надеется, что я заахаю и уйду. Но не на того напала. Сорок два рубля по нынешнему курсу – это не больше одной дойче марки, а в Мюнхене за такую же процедуру я плачу в пятьдесят раз больше.
Я заплатил за талон и вернулся в мужской зал. Парикмахерша, накрасив губы, приступила к ресницам. И в этот как раз момент опять появился я. Предъявленный ей талон она изучала долго, надеясь, очевидно, что он окажется поддельным. Потом с глубоким и откровенным вздохом уступила мне место в кресле, медленно оборачивала меня простыней и долго подбирала инструменты.
Наконец – принялась за работу. Работала медленно и неохотно. В глазах – тоска и отвращение к обрабатываемой голове. Я тоже стал постепенно впадать в уныние. Я понимаю, что мне далеко до Сильвестра Сталлоне, но и не столь же я отвратителен, чтобы смотреть на меня как на лягушку.
Последний раз перед тем я стригся в Мюнхене. Там была точно такая же парикмахерша, но она выросла в другой среде и знала, что клиентов надо привлекать. И она делала это весело и естественно. Она со мной весело поздоровалась, поинтересовалась, кто я и откуда, расспросила меня о моих родителях, о моих детях и о внуках, которых у меня нет. Она выразила восхищение густотой моих волос (а если бы их не было, то восхитилась бы лысиной). В конце с помощью двух зеркал она показала мне мой затылок, спросила, доволен ли я ее работой, и содрала с меня пятьдесят марок. Несмотря на цену, я ушел с желанием прийти сюда снова. От московской ее коллеги я ушел с надеждой никогда к ней не возвращаться.
Московская парикмахерша тоже хочет иметь много денег. Но она не думает, что для этого надо работать с охотой, надо нравиться клиентам, надо вызывать в них желание прийти опять сюда, а не куда-нибудь в другое место. Не зная этого, она работала так, как будто с ней случилось большое несчастье. Как девушка из хорошей семьи, отданная насильно в публичный дом. Потом быстро и с явным облегчением отложила в сторону инструменты и стала стягивать с меня простыню, не поинтересовавшись моим мнением о ее работе.
– Вы уже закончили? – спросил я.
– Да, конечно.
– А вы не видите, что левый висок вы подстригли меньше, чем правый?
– Это вам кажется, – сказала она, почти не разжимая губ.
Ее состояние передалось мне настолько, что даже лень было злиться.
Но все-таки я сказал:
– Мне не кажется. Я смотрю в зеркало и правое ухо вижу", а левое нет, потому что оно закрыто волосами.
– Оно не закрыто, – возразила она.
– Но почему же я его не вижу? – спросил я.
– Наверное, потому что у вас плохое зрение.
– Но почему же я тогда вижу правое ухо?
– Ой, – сказала она не выдержав. – Надо же, какой вы капризный! Ну, хорошо, хорошо.
Она опять накинула на меня простыню, сделала символический взмах ножницами и отложила их в сторону. Бороться дальше было выше моих сил.
Пришла пора мне ехать в Мюнхен. Недалеко от меня на улице Большая Спасская – немецкое райзебюро. Недавно оно еще принадлежало Германской демократической республике, а теперь там написано Федеративная республика Германия.
Пошел я туда. Надеясь, что родные немцы обслужат меня по-немецки.
В бюро полная дама говорит с кем-то по телефону. По-русски.
– Люсь, ты представляешь, мясо. Двести рублей кило. Двести рублей кило. Это ж офигеть можно.
При моем появлении отрывается от телефона с большой неохотой.
– Здравствуйте, вам чего?
Объясняю, что пришел не стричься, а за билетом.
Я понимаю, что говорить по телефону гораздо приятнее, чем работать. Делать однако нечего (все же немецкое райзебюро, а не российское), она кладет трубку и идет в другую комнату. Но на полпути остановилась.
– А вы знаете, мы здесь торгуем только за валюту.
– А мы, между прочим, продаем билеты только иностранцам.
Она собралась уже вернуться к столу, позвонить опять своей подруге и обсудить цены на молоко, но я сказал ей, что я и есть иностранец. Мое сообщение настолько ее удивило, что она даже не рассердилась.
– Вы иностранец? Надо же! А так чисто говорите что я бы никогда не подумала. Правда иностранец?
– Правда. Немец я.
– Да? А здорово как говорите! Небось, долго учились?
– Очень долго.
Ради иностранца можно и пошевелиться. Она ушла в соседнюю комнату, оттуда некоторое время доносился до меня возбужденный и неразборчивый шепот, наконец, дама вернулась, а с ней еще две, немка и русская, обе растерянные, как будто они никогда не видели человека, желающего обрести билет. Они меня напряженно выслушали и сначала неуверенно, а потом с возрастающей страстью стали по-русски и по-немецки уговаривать, чтобы я билеты купил не у них, а непосредственно у компании Люфтганза, чей офис расположился в отеле Пента.
– Зачем же вам зависеть от нас? Нам для того, чтобы принять ваш заказ, надо выяснить, есть ли у Люфтганзы билеты. А вы сами туда пойдете и сразу все узнаете.
Ну, ладно. Отправился я в Пенту. И вы, читатель этих заметок думаете, что там-то, в капиталистическом учреждении, сразу стало все на свои места? Как бы не так! Там, господа, работают гордые советские люди, выросшие в условиях социализма. Получая зарплату в свободно конвертируемой валюте, они дорожат каждым своим словом и лишнего не говорят. С одной из них состоялся у меня примерно такой разговор.
– Мне нужен билет на Мюнхен.
– Дешевых билетов нет.
– А какие есть?
– Есть дорогие.
– А сколько стоят дорогие?
– Дорого.
– Меня интересуют конкретные цифры.
Она вздохнула.
– Семьсот шестьдесят пять долларов.
И посмотрела на меня с упреком. Зачем мол, спрашиваешь, если все равно не купишь?
– А дешевые билеты сколько стоят?
– А дешевые проданы.
– Ну, все-таки сколько?
– Пятьсот долларов.
– Чем отличаются билеты за пятьсот долларов от билетов за семьсот шестьдесят пять? Они что, разного класса?
– Нет. И те и другие – экономический класс. Но дешевые билеты надо заказывать не меньше, чем за семь дней.
– А я к вам пришел за девять.
– Ну и что?
Да, действительно, ну и что? Я должен был придти за семь дней, а пришел на два дня раньше, и это ничего не значит. Я пытаюсь рассуждать вслух и логически.
Раз я пришел к вам раньше, чем за семь дней, значит, вы мне должны продать эти билеты по льготной цене.
– Нет, – возразила она, – вы неправильно рассуждаете. Те билеты, которые продаются дешево за семь дней, проданы за двадцать дней.
– А еще через неделю есть льготные билеты?
Она постучала по клавишам компьютера и радостно сообщила мне, что и через шестнадцать дней тех билетов, которые продаются за семь дней, тоже не будет.
Конечно, будь я настоящим немцем, я бы ей поверил. Но, будучи не немцем, я знал, что с настоящим немцем она разговаривала бы иначе. Поэтому, вернувшись домой, я позвонил своей знакомой настоящей немке и сказал ей: «Барбара, пожалуйста, позвони в Люфтганзу и на твоем хорошем немецком языке спроси, как там в действительности дела обстоят с билетами». Барбара позвонила и ей сказали, что билетов на ближайшее воскресенье действительно нет. Но есть на субботу перед воскресеньем. И на всю неделю после воскресенья, на любой день, кроме, может быть, следующего воскресенья. Я понял, что действовал неправильно. Надо было спрашивать так: «У вас есть дешевые билеты на воскресенье?» И если нет, то выяснять насчет каждого дня. А на понедельник? А на вторник? И так далее, до тех пор, пока какой-нибудь день не совпадет с наличием билетов. А еще я понял, что в стране, где люди повсеместно тратят столько сил, чтобы не работать, положение улучшится еще очень нескоро.
Между прочим, вернувшись в Мюнхен, я немедленно пошел поправлять прическу. Знакомая парикмахерша, принявшись за работу, деликатно спросила: «А где это вас так интересно стригли?» Не желая подрывать репутацию русских парикмахеров, я ей сказал, что время от времени меня стрижет моя жена.
– Оно и видно, – сказала парикмахерша и вздохнула. – Сейчас многие вроде вас стригутся у жен. А как же нам быть? Нам же тоже на что-то надо жить.
Я с ней согласился, но спросил, читает ли она книги.
– Нет, – сказала она, – работа, дети, муж, кино, телевизор, на книги времени не остается.
– В этом-то все и дело, – сказал я. – Вы книги не читаете и не покупаете и лишаете меня гонорара, на который я мог бы постричься.
Мы с ней посмеялись и посетовали на то, что наши профессии скоро никому не будут нужны. После чего я заплатил ей пятьдесят марок, на которые она могла бы купить две мои книги, но она этого, конечно, не сделала. Потому что у нее семья, большие расходы и стоит ли тратить деньги на ерунду.
Многие, наверное, слышали выражение "Два мира - два Шапиро". Предлагаем вам историю, проливающую свет на его появление.
Рассказ, публикуемый далее, Руди Портной записал в 2001 г.; он планировал написать и другие рассказы, участником или свидетелем которых он был и которые охватывали бы три периода его жизни: два первые – в бывшем СССР (российский и грузинский), и третий – в Израиле. Планировал, но не успел... Быть может, его друзья и люди, встречавшиеся с ним, смогут в какой-то степени восполнить этот пробел. Ведь он обладал не только отличной памятью и помнил массу интересных историй, происходивших с его участием или без него, – Руди был еще и хорошим рассказчиком.
Еврейская фамилия с нееврейским именем – Шапиро Генрих.
Это было потрясающе!
Вы спросите – что в этом потрясного?
Три тысячи человек стояли и аплодировали, то есть хлопали в ладошки: из-за кулис на ярко освещенную сцену вышел богато наряженный в ордена Леонид Ильич Брежнев. Год 1968 – награждение Грузинской Советской Социалистической Республики орденом Ленина с прикреплением оного к Красному знамени республики в честь ее пятидесятилетия.
Все стоят, а он сидит – Шапиро Генрих. Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс. Белая рубашка с короткими рукавами, черный галстук, пиджак сзади на спинке кресла. Никто уже не смотрит на дорогого Леонида Ильича – все смотрят на Шапиро Генриха. Он один сидит и, представьте себе, не аплодирует.
Это было зрелище!
У Генриха Шапиро усы как у Сталина. Плечи как у Гриши Новака. Сидит спокойно и смотрит целеустремленно на сцену, как пророк, заранее предвидевший комедию.
Москва, два года спустя. Это уже по рассказу Георгия Осиповича Осипова. На достоверность можно положиться полностью – все годы советской власти свободно выезжавший во все заграницы, кое-что несомненно знавший человек.
Москва, Тверской бульвар, старое здание ТАСС, без четверти шесть утра по московскому времени. Наш старый знакомый Шапиро Генрих выгуливает своего дога и внимательно оглядывается по сторонам. Дог "отмечает" путь своего следования у каждого столба и грязной урны. У здания ТАСС дог сделал свое дело, но Шапиро Генрих остался недоволен – у решетчатого светового окна на панели, как всегда с выбитыми глазницами, он заметил сквозь одну из них дымок (удивительное дело: стекла по большей части выбиты были по всему Советскому Союзу, хотя они были десятисантиметровой толщины и чтобы их выбить, нужен отбойный молоток),.
Продолжая свой путь, американский Шапиро думал – с чего бы быть дымку с подвального этажа ТАСС. Поэтому обратный путь он провел бегом, заметив, что дымок идет все более интенсивно. Это уже очень не понравилось догу, но он был на поводке, и у него не было выбора.
На квартире в соседнем переулке наш Шапиро Генрих бросился к телетайпу (был в то время такой аппарат для быстрой передачи мыслей из страны в страну телеграфным способом). Его сообщение было кратким, в силу обстоятельств, и содержало всего четыре слова: "В Москве горит здание ТАСС".
Москва, восемь часов утра по местному времени. В большой кабинет Генерального директора ТАСС входит многолетний и несменяемый ни при Сталине, ни при Хрущеве и ни при Леониде Ильиче товарищ Логунов. Возле стола стоит референт с пачкой телетайпных сообщений из телеграфных агентств мира. Одним из первых было сообщение из Нью-Йорка, из агентства Ассошиэйтед Пресс: "По сообщению нашего московского корреспондента Генриха Шапиро, в Москве горит здание ТАСС".
– Вы читали это сообщение? – вопрос референту.
– Да, – отвечает референт, – очередная провокация.
– И все-таки, – замечает наученный быть осторожным Логунов, – кто у нас дежурный по пожарной части?
– Старший дежурный Шапиро, очень бдительный и заслуженный человек.
– Вызовите его, пожалуйста.
Через пятнадцать минут добудились до Шапиро…
Когда Шапиро входил в кабинет Логунова, за ним ворвался вихрь черно-сизого дыма. В соседних кабинетах заработали телефоны. Все звонили по номеру 101. Этажи все были в дыму, а снизу очень подогревало.
Пожарные вовсю работали брандспойтами и топорами. Подвальный этаж ТАСС со сгоревшими десятилетиями хранившимися архивами превратился в грязный плавательный бассейн…
После того как этажи ТАСС очистились от дыма, а пожарные уехали рапортовать о выполнении своего долга, у Логунова собрались ответственные начальники отделов – на планерку.
– Слава богу, обошлось. – на большее у Логунова не нашлось слов.
– На сегодня хватит. – И когда последний из ответственных товарищей покинул кабинет, Логунов, уверенный что он в одиночестве, в сердцах произнес: "Два мира – два Шапиро!".
Уже к 12 часам дня по московскому времени эта распечатанная в двух экземплярах фраза лежала на столе у руководителя КГБ Семичасного и у начальника ГРУ.
Дело решили замять.
Говорили, что история эта совершенно подлинная. Случилась она в последние годы волюнтаристского правления Никиты. Тогда в Москве был аккредитован знаменитый корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс Гарри Шапиро. Подобно оводу он донимал наших деятелей и даже самого Хруща разного рода каверзными и где-то даже провокационными вопросами, после чего публиковал во всяких там «Нью-Йорк Таймсах» нехорошие статейки. От него всегда можно было ожидать какого-нибудь неожиданного подвоха. Короче говоря, для наших пресс-центров он был как гвоздь в диване. Главное - его нельзя было просто так поймать: многоопытный корреспондент фактов не искажал.
И вот однажды, поздним апрельским вечером прогуливается этот самый Шапиро по Тверскому бульвару столицы нашей Родины. Настроение у него самое благодушное, никаких провокаций он не замышляет. Гуляет себе человек, дышит весенним воздухом - и все. И вдруг его ноздри явно улавливают запах гари. Принюхавшись, Гарри запеленговал очаг пожара - ибо это был явный пожар! Похоже было на то, что горело здание ТАСС, находящееся в тех краях. Мгновение - и Шапиро преображается: это же неслыханная сенсация! Это же можно так подать! К перечисленным выше эмоциям несомненно еще примешивался элемент злорадства - ведь, как можно понять, отношения у Шапиро с Телеграфным Агентством Советского Союза были довольно сложные. Бегом устремился он вниз по улице Горького к Центральному телеграфу, где у него был наготове свой персональный канал связи с Америкой. Тут же он передал сенсационное сообщение, и уже через несколько минут «Ассошиэйтед Пресс» со смаком транслировало сенсационное сообщение о пожаре в ТАССе.
А в полуподвале дома ТАСС в это время скромный сотрудник означенного почтенного заведения, фамилия которого, по иронии судьбы, тоже была Шапиро, сидел у ленты телетайпа, просматривая последнюю информацию ведущих международных агентств. Он очень устал после трудового дня и глазами фиксировал события: «…Переворот в Боливии…» «…Крах американской авантюры…»«…Визит Помпиду в…». И вдруг: «…Пожар в ТАССе». Это еще что? Какая-то ерунда! Ведь он, Шапиро, садит в этом самом ТАССе и вроде бы не горит! Однако, понюхав воздух, он понял, что, как говорится, «нет дыма без огня», и стал искать очаг пожара, каковым оказалась голландская печка, где сушились чьи-то валенки, уже успевшие воспламениться. С помощью прибежавшей уборщицы тети Дуси и случайно оказавшегося в исправности огнетушителя пожар был потушен. Спустя неделю в праздничном первомайском номере тассовской стенгазеты появилась выразительная статья, где это событие описывалось в нужном освещении. Статья была озаглавлена «Два мира - два Шапиро!» Из статьи со всей очевидностью следовало, что поджигателем добрых международных отношений является американский Шапиро, в то время как наш советский Шапиро пожары тушит!
Сознаюсь, что подобно многим москвичам, я в заголовке этой любопытной статьи всегда усматривал другой смысл, тем более, что никаких Шапиро даже в должности водопроводчиков в ТАССе сейчас нет и быть не может. Этот смысл очень простой: условия жизни советских и американских «Шапиро», увы, заметно отличаются. Я поясню эту мысль несколькими простыми примерами. Я пять раз был в США и всегда ловил себя на одном и том же. Я чувствовал, если хотите, какой-то дискомфорт или, если угодно, крайнюю неловкость, наблюдая на разного рода научных конференциях или симпозиумах непомерно большое количество еврейских участников. Прямо-таки черт-те что! На всех уровнях - директора институтов и обсерваторий, члены Национальной академии, аспиранты, инженеры - сплошные соплеменники! К этому мне привыкнуть было просто невозможно. Меня слишком хорошо воспитали в моем отечестве, и не только меня. Что такое «пятый пункт» советских анкет и с чем его едят - мы все знаем слишком хорошо. Как-то непривычно, даже неуютно чувствует себя воспитанный нашими кадровиками советский человек, находясь по ту сторону океана. Судите сами: идет международная конференция по внегалактической радиоастрономии в августе 1981 года в Нью-Мексико, около величайшего в мире радиотелескопа VLA. Из примерно 300 участников по меньшей мере сотня - евреи. И, что важно - в основном, это молодежь! И какие ребята - далеко нам, людям моего послевоенного поколения, до этого уровня! И тут же, воспитанный советской прессой, я фиксирую, что на конференции присутствует всего один негр, да и тот, кажется, из Нигерии. В чем же тут дело? Ведь в США 15 миллионов негров и только 6 миллионов евреев. И никак не следует забывать, что эти евреи - потомки нищих Шолом-Алейхемовских трахомных эмигрантов из российской черты оседлости. Не думаю, чтобы их экономический или интеллектуальный уровень был выше уровня американских негров того времени. Ведь эмигрировали в Америку только самые бедные из нищих. У кого была хотя бы самая убогая лавчонка или приличное ремесло, те оставались дома, а их потомки дожидались своего Бабьего Яра или унизительного и бесперспективного существования под знаком «пятого пункта». И вот, за три-четыре поколения внуки Шолом-Алейхемовских «людей воздуха» превратились в интеллектуальную элиту Америки. В чем дело? Почему так получилось? Вопрос этот непростой. Я думаю, что все объясняется вековой тягой моего народа к книге, к знаниям. Даже тысячу лет тому назад в самые мрачные времена средневековья, евреи были народом сплошной грамотности, в том числе и женской. И это было тогда, когда европейские короли и герцоги были элементарно неграмотными. Дело тут, конечно, не в «богоизбранности» этого племени, а в исторически сложившейся судьбе. Вышло так, что знание было важнейшим фактором выживания.
Кстати замечу, что аналогичная ситуация имеет место и для потомков эмигрантов из восточной Азии. Их тяга к учению, помноженная на феноменальную усидчивость и целеустремленность, достойны удивления. 25 % студентов Калифорнийского университета в Беркли в США - китайцы и японцы, которых в 20-миллионной Калифорнии около миллиона. А всего в США живет 3,7 миллиона восточных азиатов.
Я спрашивал американских евреев, не думают ли они, что их аномально высокий интеллектуальный уровень таит в себе потенциальную угрозу антисемитизма? Ведь в многовековой истории нашего народа это было уже не раз (см. притчу об Иосифе и его братьях). Социальная пирамида американского еврейства мне представляется крайне неустойчивой. Нет, они так не думают. «Но ведь это возбуждает зависть и ее спутницу злобу?» «У нас демократическая страна равных возможностей. Что касается негров, то их музыкальность и острое чувство ритма дает им свои шансы. В Америке созданы привилегированные условия для молодых негров, желающих учиться в университетах и колледжах. Как правило, «негритянские вакансии» остаются незаполненными. Я, например, знаю случай, когда молодого эмигранта - еврея из СССР, плохо знавшего английский язык, приняли в счет негритянского лимита… Даже американские индейцы племени ирокезов нашли здесь свою «экологическую нишу». Оказалось, что у них от рождения нет присущего европейцам страха высоты. Поэтому они лучшие в этой стране монтажники-высотники. Денежки они зарабатывают побольше многих наших интеллектуалов. Но почему Вы задаете такие странные вопросы? Что там у Вас происходит?» Играя на плохом знании языка, я уходил от ответа на этот невеселый вопрос. И вместе с тем я отнюдь не разделял оптимизма моих собеседников. Немецкие евреи тоже так рассуждали. Это кончилось очень плохо.
В памяти проявился эпизод, случившийся в Москве четверть века тому назад. Тогда у нас гостил американский астроном-солнечник Гарольд Зирин - ныне один из ведущих специалистов в этой важной области астрономии. Его нищий дед по фамилии Цирюльников приехал в Америку из Минска и превратился в Зирина. Как-то раз, развлекая заморского гостя, я с компанией сослуживцев повел его в мастерскую своего брата-скульптора. Шли пешком. По дороге, когда все сюжеты для светской беседы были исчерпаны, я обратился к жене Гарольда и почему-то спросил ее: «Мери, а Вы еврейка?» «Нет, я методистка», - последовал ответ. Я не успел еще преодолеть сильный позыв к хохоту, как острый умом Гарольд спросил меня на своей версии русского языка: «А почему у Вас в паспортах пишут «русские», «украинцы», «еврейцы» (так и сказал), ведь это нехорошо! Это - фашизм!» Я ничего ему не ответил.
Да и что я ему мог сказать? Что юноше или девушке, если они по паспорту «еврейцы», попасть на астрономическое отделение Московского университета практически невозможно? За последние 20 лет (1962–1982 гг.) на это отделение (прием 30 человек в год) не принят ни один еврейский студент. Это отделение является частью физического отделения МГУ. Ежегодный набор на этот факультет 600 человек. Каждый год за последние 20 лет я задаю знакомым членам экзаменационной комиссии один и тот же вопрос: сколько же принято евреев? Ответ: от одного до трех, в среднем это составляет 0,3 %. Причем это далеко не самые способные ребята. В царской России процентная норма для евреев, поступающих в Московский университет, была, кажется, 3 % (в Новороссийский университет - 10 %). Вот такие пироги…
В этой связи я вспоминаю забавный эпизод, случившийся в Астрономическом институте им. Штернберга (астрономическая часть МГУ) лет 10 тому назад. По кафедре астрофизики там проходил очередной конкурс. Некий Курдгелаидзе, сотрудник известного физика-теоретика Д. Д. Иваненко (кстати, отец последнего был до революции председателем полтавского отделения Союза Михаила Архангела). Иваненко не смог пристроить своего питомца на своей кафедре и ловко протащил его на нашу маленькую кафедру, где постоянно был острый дефицит штатных единиц. Ясно, что этот Курдгелаидзе был нам нужен, как пятое колесо телеге, и представлялась удобная и соблазнительная возможность завалить его на конкурсе, освободив тем самым ставку. Да и занимался он каким-то мудачеством совершенно непонятного рода, как впрочем и его шеф Иваненко, чья громкая слава была уже в далеком прошлом.
Сам Иваненко прекрасно понимал сложность положения и поэтому явился на наш Ученый совет собственной персоной. Желая убедить этих темных пентюхов-астрономов в важности тематики Курдгелаидзе, он выступил с пламенной речью в защиту фундаментальных наук. Полемизируя с возможными оппонентами, он патетически воскликнул: «Что же это получается, товарищи? Выходит так, что если бы на этом вашем совете проходил по конкурсу сам Эйнштейн, вы бы его забаллотировали?» «Его бы забаллотировали по совершенно другой причине», - спокойно и довольно громко сказал я со своего места, прервав бурный поток красноречия сына бывшего шефа полтавских черносотенцев. Воцарилась мертвая тишина. Иваненко так и стоял с открытым ртом. И только через минуту по конференц-залу ГАИШ прошла ударная волна смеха. Всем почему-то стало очень весело. Впрочем, Курдгелаидзе завалили.
Все это было давно, но с тех пор положение с этим проклятым вопросом не изменилось ни на йоту. Понимая полную безнадежность, еврейские юноши и девушки почти перестали подавать заявления о приеме на физический факультет МГУ, в ФИЗТЕХ, МИФИ и прочие престижные ВУЗы, где, кстати сказать, конкурсы сейчас прямо-таки мизерные. Заявления все больше подают в технические ВУЗы, где пока еще есть шансы. Пока. Впрочем, бывают достойные внимания исключения. Один такой случай я особенно болезненно переживал летом прошлого, 1983 года.
Общеизвестно, что ранняя одаренность детей - привилегия музыки, математики и шахмат. Какой-нибудь шестилетний клопик может виртуозно играть сонатину Моцарта или обыграть лысых дядей в остром варианте древнеармянской защиты. Но до 1977 года я что-то не слыхал о примерах ранней одаренности в астрономии. Поэтому я был безмерно удивлен, когда ко мне в ГАИШ привели маленького 10-летнего мальчишку по имени Антон. Выросший в чисто гуманитарной семье каких-то киношников, Антоша с крохотных лет обнаружил пламенную любовь к астрономии и глубокое ее понимание. Я, не поверив, стал его придирчиво экзаменовать. Антон отвечал безупречно и как-то не по возрасту четко. Пораженный, я устроил жестокий эксперимент: в соседней комнате экзаменовались два аспиранта по общей астрофизике. Эти, рекомендованные своими кафедрами, балбесы, тяжко потея над заданием, явно зашивались. Я подозвал Антошу и с ходу задал ему те же вопросы, что и аспирантам. Ответы были по форме, конечно, элементарны, но по существу - совершенно правильными. За такие ответы, доказывающие полное и активное понимание предмета, я безоговорочно ставлю студентам пятерки.
Чем я мог помочь одаренному славному мальчишке? Я устроил его в астрономический кружок при Дворце пионеров и попросил кое-кого из моих знакомых астрономов руководить его занятиями. Все эти годы я его не видел. К вот наступает 1983 год, и Антоша блистательно заканчивает среднюю школу. Дорога ему казалась ясной - астрономическое отделение МГУ. Но я уже давно знал, что с Антошей будет все далеко не просто. Фамилия его - это же надо! - Черненко. А вот с национальностью дело обстоит хуже. По национальности и по паспорту Антон Александрович Черненко - тат. Таты - это дагестанские горские евреи. У меня были две возможности. Первая - открыто защищать Антона от извергов приемной комиссии физфака МГУ, громогласно и, так сказать, «с открытым забралом» требуя это безобразие кончать - в кои-то веки на астрономическое отделение МГУ может просочиться один еврей, хотя бы в счет лимита 0,3 %. Вторая возможность - помалкивать, уповая на то, что этнографические познания физфаковских «экспертов» не так уж велики. Что касается академической части проблемы, то я за нее был спокоен - я знал, что такое Антон. Я выбрал второй путь, и мы с Антоном погорели: недооценил я эрудиции и палаческого рвения этих негодяев. Кто такие таты, они прекрасно знали и определили мальчика экзаменоваться в особую группу, где свирепствовали уже суперпалачи. Техника провала особо талантливых абитуриентов еврейской национальности на физфаке и мехмате МГУ отрабатывалась десятилетиями. Суть ее состоит в том, что на письменной математике дают задачи, не имеющие решения. Я не хочу заниматься нетривиальной проблемой организации всего этого дела, тонкостями психологии зверей-«педагогов» и связанными с ней вопросами морали и этики. В конце концов, в принципе она мало отличается от проблем обслуги Майданека и Треблинки - только геноцид физический заменяется геноцидом духовным.
Короче говоря, Антона провалили по математике, провалили профессионально, на высоком уровне, так что, как говорится, это злодейство «не ловится». Сейчас Антон учится в Педагогическом институте им. Ленина, учится блестяще. Ходит ко мне в мой академический институт, где, будучи еще первокурсником, приступил к серьезной научной работе. Он вытянулся и как-то сразу стал взрослым. Что к чему он прекрасно теперь понимает, увы, слишком рано. Что же с ним делать дальше - вот вопрос. Я оказал Антону помощь, какую только мог. А как же другие талантливые ребята с тем же генетическим «дефектом»? Скольких же талантов лишилась эта страна. Выходит так, что такие таланты этой стране просто не нужны. Вот как обстоит дело, уважаемый профессор Иваненко!
В такой тлетворной среде процветают патологические монстры вроде математиков-академиков слепого Понтрягина и ныне покойного Виноградова. По своим зоологическим показателям их можно сравнить разве что с некогда повешенным пресловутым редактором «дер Штюрмер» Штрайхером. Некоторые не в меру простодушные и не очень далекие читатели могут подумать, что я «преувеличиваю» и что в действительности дела обстоят не так мрачно. А один выдающийся советский академик итало-еврейского происхождения вообще считает, что в нашей стране антисемитизма нет. Так-таки нет! Лучше всего этому «пайщику» ответил один непризнанный поэт-любитель:
…Если Ваши гениталии Укорочены в Италии, То тогда для Вашей нации Нет у нас дискриминации…
Когда же это кончится, дорогие товарищи? И кончится ли вообще?
Кто такой Шапиро, известно точно. А вот у истории, от которой произошло выражение, есть несколько версий - и все смешные.
Суть фразы «два мира - два Шапиро» вопросов не вызывает. Так говорят о разнице в менталитете, привычках жителей разных стран, представителей разных национальностей. А в момент рождения фразы подразумевалась, конечно, разница между капиталистическим и социалистическим мирами.
С Шапиро тоже все ясно. Главный герой всех версий легендарной истории - Генри Шапиро, американский журналист, работавший в СССР.
Генри Шапиро на фоне Кремля в Москве, 1960-е. Фото: globalsecurity.org
А теперь - истории о том, как появилась фраза, активно использующаяся по сей день.
1. Версия ученого-биолога, публициста Жореса Медведева, изложенная в его книге «Из воспоминаний» (эта версия подробно рассказывает и о том, кто такой Шапиро):
Вечером Раиса Львовна пригласила меня и еще нескольких друзей и сослуживцев на обед в свою небольшую квартиру. Среди гостей был ее сосед по дому и коллега — профессор школы журналистики при Университете штата Висконсин (где тогда работала на кафедре генетики Р. Л. Берг).
Как оказалось, этот пожилой американец, чисто говорящий по-русски, — Генри Шапиро, вышедший на пенсию московский корреспондент «Юнайтед пресс интернэшнл» (ЮПИ), который передавал новости из СССР с 1937-го до 1973 г.
В Москву он приехал в 1933-м для завершения образования (США находились тогда в глубокой депрессии, а СССР быстро развивался). И решил остаться в столице Советского Союза по окончании здешнего юридического вуза, тем более что его женой стала дочь одного из университетских профессоров. С 1937-го Шапиро начал работать в ЮПИ.
Его первые репортажи из Москвы были посвящены «показательным» судебным процессам периода кульминации сталинского террора. Он попал в число немногих западных журналистов, получивших пропуск в Колонный зал Дома союзов — там проходили судебные заседания, на которых доминировал не судья, а генеральный прокурор Вышинский.
Репортажи Шапиро во время войны Советского Союза с Германией считались наиболее оперативными и точными. Он сообщал о встречах Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране в 1943-м и в Ялте в 1945 г. А в 1953-м переданная им информация о смерти Сталина опередила официальное сообщение ТАСС почти на сутки. Несколько раз Шапиро брал интервью у Хрущева. А закончил свою репортерскую карьеру сообщениями о встречах Киссинджера и Брежнева.
Многим, наверное, знакомо выражение «Два мира — два Шапиро», но его происхождение мало кому известно. Между тем Генри Шапиро имеет к нему самое прямое отношение. Если не ошибаюсь, шутка-анекдот под таким заголовком появилась на последней странице «Литературной газеты» лет за 20 до моего приезда в США. Передаю как запомнил.
Поздним зимним вечером мимо здания ТАСС в Москве шли два человека. Завидев клубы дыма из окон и пробивающиеся языки пламени, один из прохожих — им оказался репортер ЮПИ Генри Шапиро — помчался в свой офис и оперативно передал по телетайпу сообщение: «Пожар в здании ТАСС в Москве!» Второй — как выяснилось, москвич Семен Шапиро — бросился к ближайшему телефону-автомату и вызвал пожарную команду. Два мира — два Шапиро.
Лежал ли в основе этой истории реальный эпизод или это плод фантазии юмористов ЛГ — не знаю. Спросить об этом Генри я не решился.
2. Версия Владимира Войновича, изложенная в его книге «Персональное дело» (ее же любил рассказывать и Сергей Довлатов - фамилию Шапиро носили его друзья, так что был повод для шуток):
Вот давняя история или легенда.
Однажды в 40-х - корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.
У вас пожар, - сказал ему Генри.
А кто это говорит? - спросил Соломон.
Советский Шапиро решил, что его разыгрывают и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет - коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро.

Генри Шапиро в московском бюро United Press International, 1973. Фото: globalsecurity.org
3. Версия израильского журналиста и издателя Руди Портного (с многочисленными подробностями и драматическими эффектами):
Это по рассказу Георгия Осиповича Осипова. На достоверность можно положиться полностью - все годы советской власти свободно выезжавший во все заграницы, кое-что несомненно знавший человек. Москва, Тверской бульвар, старое здание ТАСС, без четверти шесть утра по московскому времени. Шапиро Генрих выгуливает своего дога и внимательно оглядывается по сторонам. Дог "отмечает" путь своего следования у каждого столба и грязной урны. У здания ТАСС дог сделал свое дело, но Шапиро Генрих остался недоволен - у решетчатого светового окна на панели, как всегда с выбитыми глазницами, он заметил сквозь одну из них дымок (удивительное дело: стекла по большей части выбиты были по всему Советскому Союзу, хотя они были десятисантиметровой толщины и чтобы их выбить, нужен отбойный молоток). Продолжая свой путь, американский Шапиро думал - с чего бы быть дымку с подвального этажа ТАСС. Поэтому обратный путь он провел бегом, заметив, что дымок идет все более интенсивно. Это уже очень не понравилось догу, но он был на поводке, и у него не было выбора. На квартире в соседнем переулке наш Шапиро Генрих бросился к телетайпу (был в то время такой аппарат для быстрой передачи мыслей из страны в страну телеграфным способом). Его сообщение было кратким, в силу обстоятельств, и содержало всего четыре слова: "В Москве горит здание ТАСС". Москва, восемь часов утра по местному времени. В большой кабинет Генерального директора ТАСС входит многолетний и несменяемый ни при Сталине, ни при Хрущеве и ни при Леониде Ильиче товарищ Логунов. Возле стола стоит референт с пачкой телетайпных сообщений из телеграфных агентств мира. Одним из первых было сообщение из Нью-Йорка, из агентства Ассошиэйтед Пресс: "По сообщению нашего московского корреспондента Генриха Шапиро, в Москве горит здание ТАСС". - Вы читали это сообщение? - вопрос референту. - Да, - отвечает референт, - очередная провокация. - И все-таки, - замечает наученный быть осторожным Логунов, - кто у нас дежурный по пожарной части? - Старший дежурный Шапиро, очень бдительный и заслуженный человек. - Вызовите его, пожалуйста. Через пятнадцать минут добудились до Шапиро… Когда Шапиро входил в кабинет Логунова, за ним ворвался вихрь черно-сизого дыма. В соседних кабинетах заработали телефоны. Все звонили по номеру 101. Этажи все были в дыму, а снизу очень подогревало. Пожарные вовсю работали брандспойтами и топорами. Подвальный этаж ТАСС со сгоревшими десятилетиями хранившимися архивами превратился в грязный плавательный бассейн… После того как этажи ТАСС очистились от дыма, а пожарные уехали рапортовать о выполнении своего долга, у Логунова собрались ответственные начальники отделов - на планерку. - Слава богу, обошлось, - на большее у Логунова не нашлось слов. - На сегодня хватит. И когда последний из ответственных товарищей покинул кабинет, Логунов, уверенный что он в одиночестве, в сердцах произнес: "Два мира - два Шапиро!". Уже к 12 часам дня по московскому времени эта распечатанная в двух экземплярах фраза лежала на столе у руководителя КГБ Семичасного и у начальника ГРУ. Дело решили замять.
В Москву Генри Шапиро
приехал в 1933-м для завершения образования (США находились тогда в глубокой депрессии, а СССР быстро развивался). И решил остаться в столице Советского Союза по окончании здешнего юридического вуза, тем более что его женой стала дочь одного из университетских профессоров. С 1937-го Шапиро начал работать в ЮПИ.
Его первые репортажи из Москвы были посвящены «показательным» судебным процессам периода кульминации сталинского террора. Он попал в число немногих западных журналистов, получивших пропуск в Колонный зал Дома союзов — там проходили судебные заседания, на которых доминировал не судья, а генеральный прокурор Вышинский.
Репортажи Шапиро во время войны Советского Союза с Германией считались наиболее оперативными и точными. Он сообщал о встречах Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране в 1943-м и в Ялте в 1945 г. А в 1953-м переданная им информация о смерти Сталина опередила официальное сообщение ТАСС почти на сутки. Несколько раз Шапиро брал интервью у Хрущева. А закончил свою репортерскую карьеру сообщениями о встречах Киссинджера и Брежнева.
___________________________
Многим, наверное, знакомо выражение «Два мира — два Шапиро», но его происхождение мало кому известно. Между тем Генри Шапиро имеет к нему самое прямое отношение.
Поздним зимним вечером мимо здания ТАСС в Москве шли два человека. Завидев клубы дыма из окон и пробивающиеся языки пламени, один из прохожих — им оказался репортер ЮПИ Генри Шапиро — помчался в свой офис и оперативно передал по телетайпу сообщение: «Пожар в здании ТАСС в Москве!» Второй — как выяснилось, москвич Семен Шапиро — бросился к ближайшему телефону-автомату и вызвал пожарную команду. Два мира — два Шапиро.
___________________________
Известны и принципиально иные версии того же эпизода. Например, Владимир Войнович излагает эту «давнюю историю или легенду» так: «...корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро. — У вас пожар, — сказал ему Генри. — А кто это говорит? — спросил Соломон. — Шапиро. Советский Шапиро решил, что его разыгрывают, и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет — коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро». (Войнович В. Антисоветский Советский Союз. — М.: Материк, 2002).
Лежал ли в основе этой истории реальный эпизод или это плод фантазии юмористов ЛГ — не известно. С