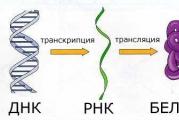Краткая биография Макса Штирнера. Право в философии М
Людвиг Буль, Джон Генри Макай
Болезнь и нужда заставили его пробыть в университете, с перерывами, 8 лет. В Берлине он слушал Гегеля , который оставил в нём неизгладимый след. Был преподавателем в разных берлинских учебных заведениях. Лично и по убеждениям близкий сперва к левым гегельянцам (Бруно Бауэр , А. Руге , К. Маркс , Людвиг Фейербах), с которыми он принадлежал к кружку Гиппеля (так называемому по имени ресторана, где он собирался), Штирнер, однако, пошёл в своем развитии по совершенно своеобразной дороге. В погребке у Гиппеля Штирнер появился в 1841 году . Там он за характерный высокий лоб и получил кличку Stirn (лоб - нем.), впоследствии трансформировавшуюся в псевдоним. В тамошней полемике не участвовал, лишь изредка отпуская меткие замечания. В личном плане держался со всеми сдержанно, но более, чем с другими общался с Бруно Бауэром , Людвигом Булем и Эдуардом Мейеном. Первые его статьи в редактируемой Марксом «Rheinische Zeitung» и в «Leipziger Allgemeine Zeitung» не имели большого значения. Женитьба в 1843 году на весьма эмансипированной особе Марии Денгардт доставила ему небольшие средства и дала возможность оставить преподавание и посвятить себя исключительно философскому труду.
Смерть Штирнера осталась практически незамеченной. Лишь благодаря бывшим друзьям его не похоронили за государственный счёт. На похоронах присутствовали Бауэр и Буль, забравший рукописи Штирнера. После его смерти они исчезли.
Анархо-индивидуализм
Влияние на К. Маркса и Ф. Энгельса
Искрометная диалектика Штирнера пробудила в молодых Марксе и Энгельсе полемический задор и интерес к немецкому социализму, побудив тем самым, к исследованию действительных отношений в политической экономии капитализма, изучению вопросов о буржуазном гражданском обществе, моральных, правовых, политических и пр. отношениях в нем. Итогом этого полемического интереса явилась рукопись под издательским названием «Немецкая идеология», основное внимание в которой уделено разбору тезисов Штирнера.
Наследие
Только в 1866 году И. Э. Эрдман посвятил Штирнеру страницу в своей «Gesch. der Philosophie», и тогда же остановился на нём Ф. А. Ланге в «Истории материализма». Через два года о нём обстоятельно заговорил Гартман в «Философии бессознательного» и теперь его не обходит ни одна история философии XIX века. В особенности значение Штирнера выросло после того, как философия Ницше приобрела широкое распространение; в Штирнере нашли одного из предшественников Ницше, во многом с ним сходного, хотя вряд ли Штирнер имел прямое влияние на Ницше; возможно даже, что Ницше вовсе его не читал. Второе издание главной книги Штирнера появилось в 1882 году; в 1891 году она перепечатана в «Universalbibliothek» Реклама (Reclam). Сам Штирнер называет свою систему философией чистого эгоизма (причём слово «эгоизм » нужно понимать не в этическом только смысле, а в смысле общефилософском). «Эгоист , - по определению Штирнера, - тот, кто ищет ценность вещей в своём „я“, не находя самостоятельной или абсолютной ценности». Таким образом философия Штирнера есть философия чистого субъективизма или индивидуализма и Штирнер - последовательный солипсист. Он расширяет положение Фихте, что «я есть всё» (Ich ist alles) в положение «я есмь всё» (Ich bin alles).
Лучшую и до сих пор единственную биографию Штирнера по ничтожным отрывкам из метрических, полицейских и т. п. книг, из весьма немногих уцелевших писем Штирнера, из столь же отрывочных воспоминаний немногих оставшихся в живых его знакомых, и по сочинениям самого Штирнера написал горячий его поклонник, анархист Джон Генри Макай: «Max Stirner. Sein Leben und sein Werk» (Берлин, 1898).
Библиография
Его книга «Der Einzige und sein Eigentum» вышла по-русски, под заглавием «Единственный и его собственность» (в приложении; Дж. Г. Макай, «М. Ш., его жизнь и творчество», Библ. «Светоч», изд. С. Венгерова, СПб., 1907). См. А. Г., «Жизнь Штирнера» в «Русский Бог», 1907 г., VII.
Сочинения
- Штирнер М. Единственный и его собственность / Пер. с нем. Б. В. Гиммельфарба, М. Л. Гохшиллера. - СПб.: Азбука, 2001. - 448 с.
Литература
- Михайловский Н. К. «Макс Штирнер и Фридрих Ницше» // Литературные воспоминания. - т. 2. - с. 399, 401-404.
- Баллаев А. Б. К.Маркс и М.Штирнер. Спор об «иерархии»
- Плеханов Г. В. Макс Штирнер - глава из книги «Анархизм и социализм»
- Ed. Hartmann, «Ethische Studien», Лейпциг, 1898.
- M. Kronenberg, «Moderne Philosophen», Мюнхен, 1899.
- J. С. Kreibig, «Geschichte des ethischen Skepticismus», Вена, 1896.
- Schellwein, «Max Stirner und Fr. Nietzsche», Лейпциг, 1892.
- В. Саводник , «Ницшеанец 1840-х годов. Макс Штирнер и его философия эгоизма» (М., 1902).
- Маркс К., Энгельс Ф. "Немецкая идеология", М., Политиздат, 1988.
Примечания
| Анархизм | |
|---|---|
| Направления | Анархо-коммунизм · Анархо-синдикализм · Анархо-коллективизм · Социальный анархизм · Анархо-индивидуализм · Анархизм свободного рынка · Анархо-капитализм · Агоризм · Мютюэлизм · Платформизм · Христианский анархизм · Анархо-примитивизм · Анархизм без прилагательных · Анархо-феминизм · Зелёный анархизм · Инфоанархизм · Криптоанархизм · Национал-анархизм · Постлефтизм |
| Теория и практика |
Анархия · Чёрный блок · Классовая борьба · Анархистский чёрный крест · Кооператив · Контрэкономика · Прямое действие · Прямая демократия · Индивидуализм · Иллегализм · Социальная экология · Сквоттинг · Рабочее самоуправление |
| Представители | Уильям Годвин · Макс Штирнер · Пьер Жозеф Прудон · Михаил Бакунин · Пётр Кропоткин · Эррико Малатеста · Карло Кафиеро · Лисандр Спунер · Элизе Реклю · Иоганн Мост · Бенджамин Рикетсон Такер · Эмма Гольдман · Александр Беркман · Рудольф Рокер · Всеволод Волин · Мюррей Букчин · Ноам Хомский · Альфредо Мария Бонанно · Джон Зерзан · Мюррей Ротбард · Сэмюэль Эдвард Конкин III · Нестор Махно |
| История | Парижская коммуна · Бунт на Хеймаркет · Первомай · Трагическая неделя · Махновщина · Красное двухлетие · Кронштадтское восстание · Испанская революция · Майские события 1968 |
| Культура | Анархо-панк · DIY культура · Фриганизм · Бесплатный магазин · Indymedia · Символика |
| Экономика | Коллективизм · Коммунизм · Кооператив · Контрэкономика · Бесплатный магазин · |
Биография
Отец - Генрих Шмидт, мастер духовых инструментов. Мать - София Элеонора Рейнлейн, из семьи аптекаря.
Болезнь и нужда заставили его пробыть в университете, с перерывами, 8 лет. В Берлине он слушал Гегеля , который оставил в нём неизгладимый след. Был преподавателем в разных берлинских учебных заведениях. Лично и по убеждениям близкий сперва к левым гегельянцам (Бруно Бауэр , А. Руге , К. Маркс , Людвиг Фейербах), с которыми он принадлежал к кружку Гиппеля (так называемому по имени ресторана, где он собирался), Штирнер, однако, пошёл в своем развитии по совершенно своеобразной дороге. В погребке у Гиппеля Штирнер появился в 1841 году . Там он за характерный высокий лоб и получил кличку Stirn (лоб - нем.), впоследствии трансформировавшуюся в псевдоним. В тамошней полемике не участвовал, лишь изредка отпуская меткие замечания. В личном плане держался со всеми сдержанно, но более, чем с другими общался с Бруно Бауэром , Людвигом Булем и Эдуардом Мейеном . Первые его статьи в редактируемой Марксом «Rheinische Zeitung» и в «Leipziger Allgemeine Zeitung» не имели большого значения. Женитьба в 1843 году на весьма эмансипированной особе Марии Денгардт доставила ему небольшие средства и дала возможность оставить преподавание и посвятить себя исключительно философскому труду.
Смерть Штирнера осталась практически незамеченной. Лишь благодаря бывшим друзьям его не похоронили за государственный счёт. На похоронах присутствовали Бауэр и Буль, забравший рукописи Штирнера. После его смерти они исчезли.
Анархо-индивидуализм
Отрывок, характеризующий Штирнер, Макс
Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по русски.– Извините меня, ваше превосходительство, – начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), – хотя я не согласен с господином… (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать mon tres honorable preopinant), [мой многоуважаемый оппонент,] – с господином… que je n"ai pas L"honneur de connaitre; [которого я не имею чести знать] но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, – говорил он, воодушевляясь, – что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и… chair a canon [мясо для пушек], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со… со… совета.
Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнею слышал.
– Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, – продолжал Пьер, – мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда…
Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:
– Во первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля – войска убывают и прибывают…
Другой голос человека, среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Апраксина.
– Да и не время рассуждать, – говорил голос этого дворянина, – а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увезти жен, детей. – Дворянин ударил себя в грудь. – Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя батюшку! – кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. – Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, – кричал дворянин.
Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.
Илья Андреич одобривал сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:
– Вот так, так! Это так!
Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, – ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, – но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.
Издатель Русского вестника Глинка, которого узнали («писатель, писатель! – послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.
– Да, да, при раскатах грома! – повторяли одобрительно в задних рядах.
Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем то виноватым и желал оправдаться.
– Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, – стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.
Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.
– Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! – кричал один.
– Он враг человечества! – кричал другой. – Позвольте мне говорить… Господа, вы меня давите…
В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.
– Государь император сейчас будет, – сказал Растопчин, – я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, – сказал граф Растопчин. – Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя… Это меньшее, что мы можем сделать!
Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.
Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое кого под руку и разговаривая.
– Государь! Государь! – вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.
По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только, по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.
– Господа! – сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услыхал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил: – Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать – время всего дороже…
Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него, и со всех сторон слышались восторженные восклицания.
– Да, всего дороже… царское слово, – рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но все понимавшего по своему.
Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой – голова, с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:
– И жизнь и имущество возьми, ваше величество!
Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает тысячу человек и их содержание.
Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.
На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они наделали.
Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.
Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай де Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю. И так точно, вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей, действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии.
Теперь деятели 1812 го года давно сошли с своих мест, их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами.
Но допустим, что должны были люди Европы, под предводительством Наполеона, зайти в глубь России и там погибнуть, и вся противуречащая сама себе, бессмысленная, жестокая деятельность людей – участников этой войны, становится для нас понятною.
Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния.
Теперь нам ясно, что было в 1812 м году причиной погибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной погибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того (что теперь кажется очевидным), что только этим путем могла погибнуть восьмисоттысячная, лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами – русской армией; не только никто не предвидел этого, но все усилия со стороны русских были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и со стороны французов, несмотря на опытность и так называемый военный гений Наполеона, были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, то есть сделать то самое, что должно было погубить их.
В исторических сочинениях о 1812 м годе авторы французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании; а авторы русские еще более любят говорить о том, как с начала кампании существовал план скифской войны заманивания Наполеона в глубь России, и приписывают этот план кто Пфулю, кто какому то французу, кто Толю, кто самому императору Александру, указывая на записки, проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвидение того, что случилось, как со стороны французов так и со стороны русских выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные.
Предположения о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и со стороны русских – о завлечении неприятеля в глубь России – принадлежат, очевидно, к этому разряду, и историки только с большой натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противоречат таким предположениям. Не только во все время войны со стороны русских не было желания заманить французов в глубь России, но все было делаемо для того, чтобы остановить их с первого вступления их в Россию, и не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался, как торжеству, каждому своему шагу вперед и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании, искал сражения.
При самом начале кампании армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтобы отступать и завлекать неприятеля в глубь страны, в соединении армий не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устроивается громадный Дрисский лагерь по плану Пфуля и не предполагается отступать далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы, но допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора, и когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен и не дано пред стенами его генерального сражения.
Так думает государь, но русские военачальники и все русские люди еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают в глубь страны.
Наполеон, разрезав армии, движется в глубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске и думает только о том, как бы ему идти дальше, хотя, как мы теперь видим, это движение вперед для него очевидно пагубно.
Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали тогда о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона в глубь страны произошло не по чьему нибудь плану (никто и не верил в возможность этого), а произошло от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей – участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Все происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидной целью дать сражение и удержать наступление неприятеля, но и этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем и невольно отходя под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом потому, что французы двигаются между обеими армиями, – угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим потому, что Барклай де Толли, непопулярный немец, ненавистен Багратиону (имеющему стать под его начальство), и Багратион, командуя 2 й армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется, и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чином немцу Барклаю.
Немецкий философ, предвосхитивший задолго до их возникновения идеи нигилизма, экзистенциализма, постмодернизма и анархизма, в особенности индивидуалистического анархизма. Основной труд - книга «Единственный и его собственность» (ориг. нем. «Der Einzige und sein Eigentum»).
Отец - Генрих Шмидт, мастер духовых инструментов. Мать - София Элеонора Рейнлейн, из семьи аптекаря.
Осенью 1826 года поступил на философский факультет Берлинского университета.
Болезнь и нужда заставили его пробыть в университете, с перерывами, 8 лет. В Берлине он слушал Гегеля, который оставил в нём неизгладимый след. Был преподавателем в разных берлинских учебных заведениях. Лично и по убеждениям близкий сперва к левым гегельянцам (Бруно Бауэр, А. Руге, К. Маркс, Людвиг Фейербах), с которыми он принадлежал к кружку Гиппеля (так называемому по имени ресторана, где он собирался), Штирнер, однако, пошёл в своем развитии по совершенно своеобразной дороге. В погребке у Гиппеля Штирнер появился в 1841 году. Там он за характерный высокий лоб и получил кличку Stirn (лоб - нем.), впоследствии трансформировавшуюся в псевдоним. В тамошней полемике не участвовал, лишь изредка отпуская меткие замечания. В личном плане держался со всеми сдержанно, но более, чем с другими общался с Бруно Бауэром, Людвигом Булем и Эдуардом Мейеном. Первые его статьи в редактируемой Марксом «Rheinische Zeitung» и в «Leipziger Allgemeine Zeitung» не имели большого значения. Женитьба в 1843 году на весьма эмансипированной особе Марии Денгардт доставила ему небольшие средства и дала возможность оставить преподавание и посвятить себя исключительно философскому труду.
В ноябре 1844 года появилась его книга «Der Einzige und sein Eigentum» (Лейпциг, издательство Отто Виганда), сразу обратившая на себя внимание и вызвавшая оживлённую полемику. Молодой философ Куно Фишер дал ей резкую оценку в брошюре «Die modernen Sophisten»; резко отнёсся к ней и Фейербах (он опубликовал ответ на критику Штирнером его «Сущности Христианства»); из социалистического лагеря она подверглась отрицательной оценке со стороны Гесса; сочувственный отзыв она встретила в статье Тальяндье в «Revue des Deux Mondes»: «De la crise actuelle de la Philosophie Hegélienne. Les partis extrêmes en Allemagne», Энгельс написал Марксу письмо, где настаивал на пересмотре своего и марксова отношения к философско-антропологической концепции Фейербаха (правда, чуть позже они тотально раскритиковали концепцию Штирнера в «Немецкой идеологии»). Несмотря на произведённый фурор и популярность в среде молодых интеллектуалов, книга была совершенно забыта, а вместе с ней и её автор. Но до этого момента он успевает провести два года в активной творческой деятельности (ответы на критику, попытка перевода книги Жана-Батиста Сея «Руководство к практической экономии»), которую ему приходится завершить в связи с нехваткой финансов. Вместе с женой они пытаются начать дело, но терпят неудачу и впадают в нищету.
В революции 1848 года не принял ни малейшего участия и вообще как-то сошёл со сцены; в литературе после 1847 года долго не появлялся. В 1847 году он развёлся с женой и с тех пор испытывал тяжёлую нужду, перебиваясь то попытками основать молочную торговлю, то комиссионерством и т. п.; несколько раз сидел в тюрьме за долги. В 1852 году вышел его труд «Geschichte der Reaction» (Берлин), первый том которого, «Die Vorläufer der Reaction», посвящён реакции после великой революции, второй том, «Die moderne Reaction», - реакции в 1848 году. Труд этот был в значительной степени компилятивным, представлял мало оригинального и прошёл совершенно бесследно. Этими двумя книгами, да ещё немногими мелкими статьями, в том числе несколькими ответами на критики его первого труда, ограничивается самостоятельная литературная деятельность Штирнера. Мелкие статьи его собрал и издал Дж. Г. Маккей (J. H. Mackay).
Смерть Штирнера осталась практически незамеченной. Лишь благодаря бывшим друзьям его не похоронили за государственный счёт. На похоронах присутствовали Бауэр и Буль, забравший рукописи Штирнера. После его смерти они исчезли.
Макс Штирнер
Штирнер Макс (1806-1856), псевдоним Каспара Шмидта, - немецкий философ-идеалист, основатель анархического индивидуализма , примыкал к младогегельянцам. В 1845 выпустил книгу «Единственный и его собственность», в которой развил систему анархизма. Единственная реальность, по Штирнеру,- это «Я», эгоист, а весь мир - его собственность. Понятия морали, права, закона общества и т. п. Штирнер отбрасываются и объявляются «призраками». Штирнер считал, что этим он очищает индивидуальное сознание от «стеснительной шелухи». Каждый является сам источником морали и права. Руководством для индивида должен быть принцип «нет ничего выше меня». Частная собственность, по Штирнеру, должна быть сохранена, т. к. в ней выражается самобытность «Я». Общественный идеал Штирнер - «союз эгоистов», в котором каждый видит в др. лишь средство для достижения своих целей. Рассматривая историю как продукт идей, Штирнер считал, что, преодолевая господствующие понятия, можно изменить общественные отношения. Штирнер резко выступал против коммунизма и революционной борьбы пролетариата. Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» подвергли всесторонней критике умозрительный идеализм Штирнера, показав его оторванность от реальных общественных отношений.
Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова . М., 1991, с. 528.
Штирнер (Stirner) Макс (псевд.; наст, имя и фам. - Каспар Шмидт, Schmidt) (25 октября 1806, Байрейт, - 26 июня 1856, Берлин) - немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма. В кн. «Единственный и его собственность» (1844, рус. пер. 1918) пытался последовательно отстаивать солипсизм в антропологии, этике и праве. Основная мысль Штирнера состоит в том, что идеалы и социальные атрибуты человека представляют собой нечто всеобщее, тогда как всякая эмпирическая личность единична. Поэтому все, что относится к «человеку» вообще, не относится к данному («единственному») «Я». Понятия «человек», «право», «мораль» и т. п. трактовались им как «призраки», отчужденные формы индивидуального сознания. Отрицая всякие нормы поведения, он утверждал, что первоисточники права и морали - сила и могущество личности. Произвол индивида устанавливает истинность того или иного положения («Я - критерий истины»). Индивид должен искать не социальную, а свою собственную свободу, поскольку за каждым социальным образованием скрываются эгоистические интересы отдельных лиц. Индивидуализм, нигилизм и анархизм оказываются общим итогом воззрений Штирнера, которые были подвергнуты резкой критике К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии» (см. Соч., т. 3, с. 103-452).
А. А. Митюшин
Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин , А.А. Гусейнов , Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. IV, с. 398.
Штирнер (Stirner) Макс (псевд.; настоящие имя и фамилия - Каспар Шмидт, Schmidt) (25. 10. 1806, Байрёйт, - 26. 6. 1856, Берлин), немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма. В книге «Единственный и его собственность» (1844, рус. пер., 1918) пытался последовательно отстаивать солипсизм в антропологии, этике и праве. Основная мысль Штирнера состоит в том, что идеалы и социальные атрибуты человека представляют собой нечто всеобщее, тогда как всякая эмпирическая личность единична. Поэтому всё, что относится к «человеку» вообще, не относится к данному («единственному») «Я». Понятия «человек», «право», «мораль» и т. п. трактовались Штирнером как «призраки», отчуждённые формы индивидуального сознания. Отрицая всякие нормы поведения, Штирнер утверждал, что первоисточники права и морали - сила и могущество отдельной личности. Произвол индивида устанавливает истинность того или иного положения («Я - критерий истины»). Индивид, согласно Штирнеру, должен искать не социальную, а свою собственную свободу, поскольку за каждым социальным образованием скрываются эгоистические интересы отдельных лиц. Индивидуализм, нигилизм и анархизм оказываются общим итогом воззрений Штирнера, которые были подвергнуты резкой критике К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Нем. идеологии» (см. Соч., т. 3, с. 103- 452).
Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв , П. Н. Федосеев , С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.
Литература: Geschichte der Reaktion, Abt. 1-2, В., 1852. Плеханов Г. В., Анархизм и социализм, Соч., т. 4, М., 1925; Курчинский Μ. Α., Апостол эгоизма. М. Ш. и его философия анархии, П., 1920; Ойзерман Т. И., Формирование философии марксизма, M., 19742; Ar von H, Aux sources de l"existentialisrae M. Stirner, P., 1954 (лит.); Emge Κ. Α., Μ. Stirner. Eine geistig nicht bewältige Tendenz, Mainz, 1964.
Штирнер (Stirner) Макс (настоящее имя - Каспар Шмидт) (1806-1856) - немецкий философ, теоретик индивидуалистического анархизма. Основной философский труд - "Единственный и его собственность" (1845), принесший его создателю значительную известность, но вскоре забытый и вновь обретший признание в качестве классики анархических учений через 20 лет после смерти автора. Эта книга, по выражению М. Кроненберга, - крик угнетенной индивидуальности против порабощения государственным деспотизмом.
Бернштейн и Плеханов считали Ш. наиболее последовательным и радикальным из всех известных анархистов. Согласно Ш., жизнь человека с самого рождения проходит в борьбе с окружающим миром. В этой борьбе человек утверждает себя в качестве "единственного" - ни на кого и ни на что не похожего существа. Одновременно человек формируется обществом в качестве обладателя духа - творца и собственника мыслей, идей. Идеи отечества, нравственности, законности, благочестия, богобоязни, общие для разных людей, для человеческих масс, довлеют над человеком, сковывают его свободу. Они - не более чем призраки, но, будучи навязываемы каждому человеку при помощи насилия, они приобретают характер реальных институтов. Такими же призраками, по Ш., являются государство, право, собственность, семья, религия и т.д. Человек должен преодолеть призраки, освободиться от них, утвердив себя в качестве собственника мира предметного и мира духовного. Для этого необходимо вернуться к самому себе, реабилитировать свой естественный эгоизм и индивидуализм, научившись отдавать предпочтение личному перед "духовным".
С позиций гуманного эгоизма Ш. критикует и либерализм, и социализм. Либералы, согласно Ш., проповедуют свободу индивидов только на словах, на деле же они освящают подчинение индивидов буржуазной законности. На смену тирании властителей феодальной эпохи приходит тирания либеральных законов, написанных людьми для того, чтобы подчинить людей власти денег, заставить неимущих служить имущим. Социалисты же, по Ш., стремятся уравнять собственность путем уничтожения частной собственности. Но стоит сделать это, и все окажутся нищими, абсолютно беспомощными перед высшим собственником - государством. Именно таков, по Ш., так называемый пролетарский, коммунистический идеал. То, что коммунист видит в человеке брата, по Ш., только воскресная праздничная сторона коммунизма. С будничной же стороны он рассматривает человека как работника на государство. Такой фанатизм свободы оборачивается государственным деспотизмом худшего толка. Но и под владычеством либерального государства нет подлинных собственников. Истинным собственником собственников остается само государство, люди - только держатели и пользователи собственности. Каждый человек принадлежит отечеству, государству в качестве его собственности. Выход из этого тупика, обусловленного подчинением человека собственности, заключается в том, чтобы отобрать у слуг государства власть, которую индивиды дали им в неведении своей силы. Веление эгоизма состоит в том, что каждый сам наделяет себя собственностью, берет себе столько, сколько ему нужно.
Средства же для этого можно получить путем освобождения труда. Нужно не ждать справедливого распределения от начальства, а умножить свободным трудом присваиваемые средства для жизни. Люди должны научиться добывать себе все, что нужно для жизни, не отнимая у других. А для этого нужно уничтожить государство и заменить его системой союзов, свободных ассоциаций. В таком союзе "единственный", по мысли Ш., свободно соединяется с другим для осуществления своей цели, и так же свободно разделяется с ним. В союзе каждый живет эгоистично, союз - собственность каждого. Методом уничтожения государства является всеобщее восстание. Такое восстание, по своей сути, противоположно революции. Если революция есть политическое и социальное деяние, имеющее целью создание новых учреждений, то восстание есть деяние отдельных личностей, которое позволит людям самим себя устраивать. Только при таком устройстве человек сможет по-настоящему наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы тратить всю жизнь на удовлетворение нужд для жизни. Взгляды Ш. оказали и продолжают оказывать значительное влияние на "левую" интеллигенцию.
Л.В. Кривицкий
Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998.
Далее читайте:
Философы, любители мудрости (биографический указатель).
Исторические лица Германии (биографический справочник).
Сочинения:
Geschichte der Reaktion, Abt. 1-2. В., 1852.
Литература:
Плеханов Г. В. Анархизм и социализм.- Соч., т. IV. М., 1925;
Курчинский М. А. Апостол эгоизма. М. Штирнер и его философия анархии. П., 1920;
Aux sources de l"existentialisme M. Stirner. P., 1954 (лит.);
Emge К. A. M. Stirner. Eine geistig nicht bewaltige Tendenz. Mainz, 1964.
Анархистскую теорию Макса Штирнера называли карикатурен на философию религии Людвига Фейербаха7.
Некоторые даже доходили до того, что высказывали предположение, будто единственным мотивом, побудившим Штирнера написать чувствать себя чувствовать дурными своими действиями. Нет такой политической алхимии, при помощи которой возможно было бы превратить свинцовые инстинкты в золотые нравы». «L"individu contre l"Etato par Herbert Spen cer, trailuit de l"Anelais par J. Gerschel, Paris 1888, p 64. Но это предположение лишено всякого основания. Штирнер вовсе не шутил при изложении своей теории. Он был глубоко убежденным ее сторонником, хотя и обнаружил вполне естественную для тогдашнего бурного времени тенденцию -- перещеголять Фейербаха радикализмом своих выводов.
По мнению Фейербаха -- то, что люди называют божеством, есть лишь продукт их воображения, продукт психологического заблуждения. Не божество создало человека, а, напротив) человек создает божество по образу и подобию своему. Когда человек молится Богу, то он молится своей собственной сущности. Бог -- это лишь вымысел, но очень вредный вымысел. Христианский Бог почитается, как воплощение любви, как воплощение сострадания к бедному страждущему человечеству. Но несмотря на это, или скорее именно поэтому, каждый достойный названия христианина человек ненавидит атеистов, которые ему представляются живым отрицанием всякой любви и всякого сострадания, -- и он должен их ненавидеть. Так-то Бог любви становится Богом ненависти, Богом преследования: продукт воображения человека становится действительной причиной его страданий. И именно поэтому необходимо положить конец этой фантасмагории. Так как человек, молясь Богу, молиться своей собственной сущности, то необходимо, наконец, раз навсегда сорвать и отбросить мистическое покрывало, в которое облекалась эта сущность. Любовь к человечеству не должна воплощаться вне человечества. «Для человека высшим существом является сам человек».
Такова основная мысль Фейербаха.
Макс Штирнер во всем с ним согласен. Но он хочет сделать из его теории последние и самые радикальные выводы. Он рассуждает так -- «Божество есть не что иное, как продукт воображения -- призрак, привидение. Согласен) Но что такое само человечество. любовь к которому вы проповедуете? Не является ли и оно, в свою очередь, одним лишь привидением, абстрактным существом. мысленной вещью? Где оно существует, ваше человечество, если не в головах людей, не в головах отдельных индивидов? А потому нет ничего реального, помимо индивидуума, с его потребностями, стремлениями и волей. А если это так, то как вы можете требовать, чтобы индивидуум, это реальное существо, жертвовало собой во имя счастья «человека» вообще -- существа абстрактного? Напрасно вы ополчаетесь против старого Бога: вы сами все еще придерживаетесь религиозной точки зрения, и эмансипация, которую вы хотите нам дать, всецело проникнута теологической мудростью. Конечно, -- высшим существом является сущность человека, но именно потому, что это его сущность, а не он сам, совершенно безразлично, видим ли мы ее вне его и рассматриваем, как «Бога», или находим ее внутри его и называем «сущностью человека» или просто «человеком». «Я» -- ни Бог, ни «человек» вообще, ни высшее существо, ни моя собственная сущность, и потому совершенно безразлично, мыслю ли я сущность внутри себя или вне себя. Да и на самом деле, мы всегда мыслим высшее существо одновременно в двоякой потустороности, внутренней и внешней: «Дух Божий» по христианскому миросозерцанию есть вместе с тем и «наш дух» и «живет в нас». Он живет на небе и живет в нас; мы, жалкие создания, являемся лишь его «обителью». Но когда Фейербах разрушает к тому же его небесную обитель и заставляет его со всем своим скарбом переселиться в нас, в его земную обитель, то в последней становится слишком тесно»7. Чтобы избежать такого «переполнения», чтобы не отдавать себя во власть какого-нибудь «привидения», чтобы стать, наконец, обеими ногами на твердую реальную почву, -- для всего этого в нашем распоряжении имеется лишь одно средство: взять за исходный пункт единственное реальное существо, наше собственное «Я».
«Долой, поэтому, все то, что не есть целиком мое собственное дело! Вы думаете, что мое дело должно быть, по меньшей мере, «добрым делом»? Но что добро, что зло! Я ведь сам -- мое собственное дело, а я -- ни добрый, ни злой. Добро, .как и зло, для меня лишены всякого смысла. Божеское -- это дело Божье; человеческое -- дело «человека». Мое дело не есть ни Божье, ни человеческое, ни истинное, ни доброе, ни правое, ни свободное и т.д., а исключительно мое. Оно не всеобщее, -- оно единственное, как един я. Для меня нет ничего выше меня!»8 Религия, совесть, мораль, право, закон, семья, государство,--каждое из этих понятий есть иго, которое на меня налагают во имя какой-то абстракции; все это -- деспоты, против которых «Я», как безграничный хозяин над своей сознанной индивидуальностью, борюсь всеми имеющимися в моем распоряжении средствами. Ваша мораль, -- не только мораль буржуазных филистеров, но даже и самая возвышенная чело-веческая мораль, -- есть не что иное, как религия, заменившая одно высшее существо другим. Ваше право, которое, по вашему мнению, рождается вместе с человеком, есть не что иное, как призрак. И если вы его чтите, то вы не ушли дальше гомеровских героев, приходивших в ужас каждый раз, когда они замечали, что в рядах неприятеля сражается какой-нибудь бог. Право -- это сила.
«У кого сила, -- у того и право; нет у вас силы, -- нет и права. Неужели так трудно постич эту мудрость? Меня хотят уговорить пожертвовать своими интересами ради интересов государства. Я, напротив того, объявляю войну не на жизнь, а на смерть всякому государству, даже самому демократическому... Всякое государство есть деспотия, независимо от того, является ли этим деспотом один человек или многие, или же, как это себе представляют в республике, господами являются все, т.-е. когда все друг для друга деспоты. Так оно и бывает каждый раз, когда выраженная воля какого-нибудь народного собрания становится законом для отдельной личности, -- законом, которому эта отдельная личность обязана повиноваться. Если даже представить себе, что народная воля, действительно, представляет волю всех отдельных личностей, что мы, действительно, получили бы совершенную «коллективную волю», -- то от этого дело все-таки не изменилось бы. Не был ли бы я связан сегодня и завтра моим вчерашним мнением? А если бы это было так, то это означало бы, что моя воля окаменела. Жалкое постоянство! Мое собственное творение, а именно, определенное выражение моей воли, стало бы моим повелителем. Мне же, творцу, были бы поставлены преграды, которые мешали бы даль- нейшему свободному проявлению моей воли. Только потому, что я вчера был глупцом, я должен им оставаться на всю жизнь. Таким образом, в государственной жизни я, в лучшем случае (можно было бы также сказать -- в худшем случае), являюсь собственным рабом. Только потому, что я вчера был человеком с волей, -- я сегодня должен быть человеком без воли; вчера свободен, -- сегодня раб»9.
Тут сторонник «народовластия» мог бы возразить Штирнеру, что его «Я» заходит слишком далеко в своем стремлении довести до абсурда демократическую свободу. Так как дурной закон может быть отменен, как только этого желает большинство граждан, то не всегда необходимо ему подчиняться в продолжение всей жизни. Впрочем, это только незначительная деталь, и Штирнер на это ответил бы, что именно необходимость аппелировать к мнению большинства доказывает, что наше «Я» не есть господин своих действий.
Выводы нашего писателя неопровержимы по той простой причине, что сказать: я не признаю ничего, кроме себя самого, значит сказать: я чувствую себя подавленным всяким учреждением, навязывающим мне какую бы то ни было обязанность. Это простая тавтология.
До очевидности ясно, что никакое «Я» не может существовать само по себе. Штирнер это прекрасно понимает, и это заставляет его проповедывать свои «союзы эгоистов», т.-е. свободные союзы, в которые каждое «Я» вступает и в которых оно пребывает лишь до тех пор, пока это совпадает с его интересами. Здесь мы на минуту остановимся.
Перед нами «эгоистическая» система par excellence. В истории человеческой мысли это, быть может, единственный в своем роде продукт. Французских материалистов XVIII в. обвиняли в том, что они будто бы проповедывали эгоизм. Это крайне ошибочно. Французские материалисты постоянно проповедовали «добродетель», и делали они это с таким необузданным усердием, что Гримм, не без основания, насмехался над их «капуцинадой». Вопрос об эгоизме имел для них значение двойной «проблемы»:
Человек состоит целиком из ощущений, -- таково было основное положение всех их суждений о человеке. Сама его природа заставляет его избегать страданий и искать удовольствий. Чем же объяснить тот факт, что люди способны, во имя торжества какой-нибудь идеи, т.-е. в последнем счете для того, чтобы доставить своим ближним приятные ощущения, переносить величайшие страдания?
Так как человек -- только ощущения то он -- будучи поставлен в общественную среду, где интересы отдельного индивидуума противоречат интересам других -- причинял бы вред своим ближним. Каково же то законодательство, которое оказалось бы способным согласовать всеобщее благо с благом индивидуума? -- В постановке и разрешении этой двойной проблемы и заключается все значение того, что мы называем материалистической этикой восемнадцатого века.
Макс Штирнер преследует прямо противоположную цель. Он смеется над «добродетелью» и далек от мысли -- желать ее торжества, но считает разумными существами лишь эгоистов, для которых ничего, кроме их собственного «Я», не существует. Повторяем, он теоретик, эгоизма par excellence.
Добрые буржуа, уши которых так же непорочны и добродетельны, как жестоки их сердца, те самые, которые сами пьют вино, а другим-советуют пить воду, -- эти буржуа пришли в крайнее негодование от, безнравственности Штирнера. «Это ведь полное разрушение мира!» восклицали они. Но, как это всегда случается, добродетель филистеров и на этот раз оказалась очень слабою в аргументировании. «Истинная заслуга Макса Штирнера, -- писал француз St. Rene Taillandier, -- заключается в том, что он сказал последнее слово молодой атеистической школы» (т.-е. левого крыла гегельянской школы. Г. П.). Филистеры других стран были того же мнения относительно заслуги смелого писателя Но с точки зрения современного социализма эта заслуга выступает совершенно в ином свете.
Во-первых, неоспоримая заслуга Штирнера заключается в том, что он открыто и энергично выступил против кисло-сладкой сентиментальности буржуазных реформаторов и многих утопических социалистов, полагавших, что эмансипация пролетариата явится следствием «добродетельного образа действий» «самоотверженных» представителей различных классов народа и, раньше всего, класса имущих. Штирнер-прекрасно понимает, чего можно ожидать от «духа самопожертвования». эксплоататоров. «Богатые» -- жестоки, но «бедные» (это -- терминология нашего автора) -- неправы, когда они жалуются на эту жестокость: ибо не богатые создают нищету бедных, а бедные создают богатство богатых. Пусть они поэтому ропщут на самих себя, если находятся в угнетенном положении. Для того, чтобы его изменить, они должны только выступить против богатых, и как только они этого серьезно захотят, сила перейдет на их сторону, и господству богатства настанет конец. Спасенье в борьбе, а не в бесплодных призывах к великодушию» угнетателей. Штирнер проповедует, таким образом, классовую борьбу Он, разумеется, представляет себе эту борьбу в абстрактной форме -- в форме борьбы известного числа «Я» против меньшего числа таких же эгоистических других «Я». И, однако, мы наталкиваемся здесь на другую заслугу Штирнера.
По мнению Тальандье, Штирнер сказал последнее слово молодой атеистической школы немецкой философии. В действительности же он сказал лишь последнее слово идеалистической метафизики. И в этом его неоспоримая заслуга.
В своей критике религии Фейербах лишь наполовину материалист. Молясь Богу, человек молится своему собственному идеализированному существу. Это верно. Но ведь религии, как и все прочее на нашей планете, возникают и исчезают. Не доказывает ли это, что человеческое существо не остается неизменным, что оно видоизменяется в историческом процессе развития обществ? Совершенно ясно, что в действительности так и происходит. Но если это так, то какова же причина изменения «человеческих существ»? Фейербах ничего об этом не знает. Для него человеческое существо такое же абстрактное понятие, как человеческая природа для французских материалистов. Это основной недостаток его критики религии. Штирнер прекрасно замечает, что эта критика страдает худосочием, и хочет укрепить ее свежим воздухом действительности. Он знать не хочет никаких фантомов, никаких созданий «спекулирующей мысли». В действительности, говорит он себе, существует лишь индивидуум, -- его мы и возьмем в качестве исходного пункта. Но какой, именно, индивидуум берет он исходным пунктом? Ивана, Петра, Якова или Сидора? Ничего подобного. Он берет индивидуум вообще, т.-е. новую абстракцию, да притом самую тощую -- пресловутое «Я».
Штирнер наивно воображает, что он дает настоящий ответ на старый философский вопрос, служивший еще в средние века темой для споров между номиналистами и реалистами. «Никакая идея не имеет бытия, -- говорит он, -- ибо никакая идея неспособна принять телесную форму. Схоластический спор между реализмом и номинализмом был такого же содержания».
Увы! любой номиналист мог бы с полной убедительностью доказать нашему автору, что его «Я» -- такая же «идея», как и всякая другая, что и оно так же мало реально, как знаменитая математическая «единица».
Иван, Петр, Яков, Сидор вступают между собой в известные отношения, которые не зависят от воли их «Я», а навязываются им состоянием общества, в котором они живут. Критиковать социальное устройство во имя этого «Я» -- значит покинуть единственную в данном случае плодотворную точку зрения -- точку зрения общества, законов его.жизни и развития -- и теряться в тумане абстракции. Именно в этот туман и впадает номиналист Штирнер. Я есмь Я -- это его исходный пункт. Не-Я не=Я -- это его результат.
Я+Я+Я+и т. д. -- это его социальная утопия. Это -- предлагаемый к услугам социальной и политической критики чистый и беспримесный субъективный идеализм. Это -- самоубийство идеалистического умозрения.
Но в том же самом году (1845 г.), когда появилась книга Штирнера «Der Einzige und sein Eigenthum» («Единственный и его собствен-ность»), во Франкфурте-на-Майне вышла книга Маркса и Энгельсах «Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Konsorten». («Святое Семейство или критика критической критики, против Бруно Бауэра с товарищами»). В этом произведении идеалистическое умозрение было подвергнуто критике и разбито диалек-тическим материализмом, этой теоретической основой современного социализма. «Личность» несколько запоздала.
Мы только что сказали: Я+Я+Я+и т. д. -- это социальная утопия Штирнера. Его «союз эгоистов», в действительности, является не чем иным, как суммой абстрактных величин. Что лежит, что может лежать в основе их союза? Их интересы, -- отвечает Штирнер. Но чем будет, чем может быть реальная основа того или иного соглашения их интересов? Штирнер ничего об этом не говорит, да и вообще ничего-сказать не может; с той высоты абстракции, на которую он поднимается,. невозможно увидеть ничего определенного и ясного в экономическо» действительности, этой матери и кормилице всех «Я» -- и эгоистических и альтруистических.
Что же удивительного, что ему не удалось привести в ясность даже того понятия о классовой борьбе, к которому он довольно удачно подходил? «Бедные» должны вступить в борьбу с «богатыми». Ну, а что, если первые победят? Тогда каждый из бывших бедных, точно так же, как и каждый из бывших богатых, будет вести борьбу с каждым из бывших бедных и с каждым из бывших богатых. Тогда начнется «война всех против всех» (это точное выражение Штирнера). И в этой колоссальной войне, в этой всеобщей борьбе статуты «союза эгоистов» будут каждый раз служить лишь временным перемирием. В этом не мало военного. юмора, но ни капли того реализма, о котором мечтал Макс Штирнер.
Оставим на время «союз эгоистов». Напрасно станет утопист закрывать глаза перед экономической действительностью; желает ли он этого или нет, всюду будет она его преследовать с беспощадной грубостью силы природы, еще не побежденной наукой. Возвышенная сфера абстрактного «Я» не защищает Штирнера от натисков экономической действительности. Он рассказывает нам не только о своем автономном «эгоисте», но также и о его «собственности». Что же представляет собой-собственность самодовлеющей «личности»?
Само собой разумеется, что Штнрнер мало склонен освящать собственность в качестве «приобретенного права». «Правомерной или законной собственностью другого будет лишь та собственность, относительно которой ты согласен) что она его собственность. Как только ты перестанешь быть с этим согласен, собственность другого потеряла для тебя свою законность) и ты посмеешься над абсолютным правом на эту собственность»10. Как видим, все та же песня; для меня нет ничего выше меня. Неуважение к чужому праву собственности не мешает, однако, штирнеровскому «Я» обладать наклонностями собственника. Самым сильным аргументом "против коммунизма" является для него соображение, что коммунизм, уничтожая личную собственность, превращает всех членов общества в «жалких босяков». Подобного рода несправедливость возмущает Штирнера.
«По мнению коммунистов, собственником должна быть община. Как раз наоборот. Собственником являюсь «Я», с другими же я вхожу только в известное соглашение на счет моей собственности. Если община не удовлетворяет моих притязаний, то Я восстаю против нее и защищаю свою собственность. Я -- собственник, но собственность не священна. Но следует ли из этого, что я только владелец? (намек на Прудона. -- Г. П.). Ни в коем случае. До сих пор люди были владельцами, обеспеченными во владении своими клочками только потому, что они и других оставляли во владении их клочками. Отныне же <все» принадлежит Мне; Я -- собственник «всего» того, что мне нужно, и чем я в силах «овладеть». Социалист говорит: общество даст мне то, что мне нужно. Эгоист говорит: я беру себе то, что мне нужно. Коммунисты ведут себя, как босяки; эгоист ведет себя, как собственник"11.
Таким образом, собственность эгоиста, как видно, не представляется чем-то устойчивым, обеспеченным. «Эгоист» остается собственником лишь до тех пор, пока другие «эгоисты» не решатся его ограбить и превратить его, таким образом, в «босяка». Однако, не так страшен черт, как его малюют. Взаимные отношения собственников-«эгоистов» Штирнер представляет себе скорее в виде обмена, чем в виде грабежа. А сила, к которой он беспрерывно аппелирует, -- это экономическая сила производителя товаров, освободившегося от старых пут, навязанных ему государством или «обществом».
Устами Штирнера говорит душа товаропроизводителя. Если он уничтожает государство, то это потому, что, как ему кажется, государство недостаточно уважает «собственность» такого товаропроизво дителя. Он требует своей собственности, полной своей собственности. Государство заставляет его платить налоги; государство позволяет себе экспроприировать его во имя общественного блага. Он жаждет jus utendi et abutendi. Государство соглашается на это; но, -- прибавляет оно, -- бывают злоупотребления и злоупотребления. В ответ на это Штирнер восклицает: «Держите вора!». «Я -- враг государства, -- говорит он, -- которое вечно ставит альтернативу: оно или Я... В государстве нет никакой собственности, т.-е. нет собственности автономного «я», а существует лишь государственная собственность. То, что я имею, я имею лишь через государство точно так же, как только через него я -- то, что я есмь. Моей частной собственностью считается лишь то, что государство мне уделяет из своей собственности, при чем оно соответственным образом сокращает собственность других граждан (лишает их собственности). Вот что такое государственная собственность». «А потому долой гocудapcтвo и да здравствует простая, совершенная собственность моего автономного «я».
Штирнер перевел на немецкий язык политическую экономию Сэя («Traite d "economic politique pratique de J. B. Say»)12. И несмотря на то, что он перевел и Адама Смита, ему никогда не удавалось выйти за пределы узкого круга понятий вульгарной буржуазной экономии. Его «союз эгоистов» представляет собой не что иное, как утопию возмущенного мелкого буржуа. В этом смысле и можно выразиться, что он сказал последнее слово буржуазного индивидуализма.
Штирнеру принадлежит еще и третья заслуга: он имел мужество открыто высказывать свое мнение и довести свою индивидуалистическую теорию до самых крайних ее выводов. Он самый бесстрашный и самый последовательный из анархистов. Рядом с ним Прудон, -- которого Кропоткин и современные его единомышленники называют отцом анархии, -- является просто-на-просто чопорным филистером.
Прудон
Если Штирнер выступает против Фейербаха, то «бессмертный» Прудон подражает Канту. «То, что было сделано Кантом приблизительно 60 лет тому назад для религии; то, что им было сделано еще раньше для достоверности нашего познания; то, что до него было сделано другими для счастья и для высшего благоденствия человечества, -- то теперь хочет предпринять «Voix du Peuple» в области государственного управления». Так величаво провозглашает «отец анархии».
Посмотрим же, как он приступает к своей задаче и каковы результаты.
По мнению Прудона, до Канта всякий верующий и всякий философ «с непреодолимой тревогой» спрашивали себя: «Что такое Бог?» А вслед за этим неизбежно следовал вопрос: какая лучшая из всех религий? «Если, действительно, над человечеством существует Высшее Существо, то должна также существовать известная система отношений между этим существом и человечеством. В чем же она заключается? Поиски за лучшей религией -- это второй шаг, который человеческий дух делает в области разума и веры». Кант считает эти вопросы неразрешимыми. Он не спрашивал себя, что такое Бог, и что такое истинная религия, а ставил себе задачей объяснить происхождение и развитие идеи Бога. «Он задался целью дать биографию этой идеи», и тут он достиг столько же превосходных, сколько и неожиданных результатов. «В Боге, как сказал Мальбранш, мы ищем и видим наш собственный идеал, чистую сущность человечества... Человеческая душа вначале познает себя не путем внутреннего созерцания своего Я, как это полагают психологи; она видит себя вне себя самой, как будто она существо, отличное от себя самой; этот отраженный образ она и называет Богом. Таким образом, мораль, справедливость, общественный строй, законы -- все это уже не навязано нашей свободной воле извне, неизвестным и непостижимым для нас высшим существом. Все это, наоборот, вещи, которые нам присущи и составляют такую же неотъемлемую принадлежность нашего существа, как наши способности, наши органы, наша плоть и кровь. В двух словах: религия и общество -- это два однозначу-щих выражения. Человек так же священен для себя самого, как если бы он был Богом».
Вера в авторитет столь же первоначальна и всеобща, как и вера в Бога. Всюду, где существуют люди, соединяющиеся в общество, существует и власть, как начало всякого правительства. С незапамятных времен люди спрашивают себя: что такое правительственная власть, и каков лучший образ правления? Но тщетно ищут ответа на эти во-просы: существует столько же форм правления, сколько религий, столько же политических теорий, сколько философских систем. Возможно ли положить конец этим непрерывным и бесплодным пререканиям? Есть ли выход из этого тупого переулка? Безусловно! Нужно только следовать примеру Канта, нужно только поставить себе вопрос,. откуда происходит эта идея авторитета, идея правительственной власти? Каков законный источник политической идеи? Будучи поставлен на такую почву, вопрос этот разрешается удивительно легко:
«Как и религия, каждая данная форма правления есть про явление общественной бессознательности («самопроизвольности», подготовление человечества к высшему состоянию».
«То, что человечество ищет в религии, и что оно называет Богом, -- это само человечество».
«То, чего всякий гражданин ищет в правительстве, и что он называет королем, императором или президентом, -- это он сам, это его свобода».
«Вне человечества нет Бога: теологическое миросозерцание не имеет никакого смысла. Вне свободы нет правительства; политическое миросозерцание не имеет никакой цены». Все это относится к «биографии» политической идеи. Раз она известна, то она выяснит нам и подлежащий нашему исследованию вопрос: каков самый лучший образ правления?
«Буквально говоря, самая лучшая форма правления, как и совершеннейшая религия, -- это идея, заключающая в себе внутреннее противоречие. Задача заключается не в том, чтобы знать, при каких условиях мы лучше всего управлялись бы, а в том, чтобы знать, при каких условиях мы были бы наиболее свободны. Свобода, соответствующая и согласованная с порядком, -- вот все, что общественная власть и политика содержит в себе реального. Как же получается эта абсолютная свобода. идентичная с порядком? Это мы узнаем из анализа различных формул, определяющих авторитет. Мы так же мало допускаем господство человека над человеком, как и эксплоатацию человека человеком13.
Мы тут достигли самой вершины политической философии Прудона. Отсюда берет свое начало свежий, живительный поток его анархистских мыслей. Но прежде чем последовать по несколько извилистому руслу этого потока, нам хотелось бы еще раз оглянуться на ту тропинку, по которой мы поднялись.
Мы воображали, что идем за Кантом. Но мы ошиблись. В своей «Критике чистого разума» Кант показал, что невозможно доказать существование Бога, потому что все то, что находится вне нашего опыта, нам совершенно недоступно. В своей «Критике практического разума» Кант допустил существование Бога во имя морали. Но он никогда не говорил, что Бог является лишь отраженным образом нашей собственной души. То, что ему приписывает Прудон, составляет не-отъемлемую собственность Фейербаха. Таким образом, набросав в крупных штрихах «биографию» политической идеи, мы следовали примеру Фейербаха. Прудон, следовательно, приводил нас обратно, как раз к тому самому пункту, откуда началось наше совсем не сентиментальное путешествие с Штирнером. Не беда: мы еще раз будем аргументировать, следуя за Фейербахом.
То, что человечество ищет в религии, -- это само человечество. То, что гражданин ищет в форме правления, -- это он сам, это свобода... Следует ли из этого, что свобода составляет сущность гражданина? Допустим, что это так; но установим в то же время несомненный факт, что французский «Кант» ничего, абсолютно ничего не сделал для того, чтобы доказать «законность» подобной «идеи». И это еще не все. Что представляет собой эта свобода, относительно которой мы допускаем, что она составляет сущность гражданина? Политическая ли это свобода, которая вполне естественным образом должна была бы быть главным предметом его забот? Ничуть не бывало. Предположить это -- значило бы превратить «гражданина» в «авторитарного» демократа. В форме правления наш гражданин ищет абсолютную свободу индивидуума, «адекватную» и «идентичную» с порядком. Другими словами, сущностью «гражданина» является Прудоновская анархия. Трудно сделать более приятное открытие, но «биография» этого открытия заставляет призадуматься. Мы хотели разрушить все аргументы, говорящие в пользу идеи авторитета власти, подобно тому, как Кант разрушил все доказательства существования Бога. Чтобы достигнуть этой цели, мы допустили, что именно свободу ищет гражданин в любой форме достойная восхищения всех миролюбивых, сентиментальных и сердитых буржуа белой, синей или красной масти!
Так как «гражданин» ищет в форме правления только «абсолютную» свободу, то государство является лишь выдумкой («выдумкой о высшем существе, называемом государством»). Все формулы государственного правления, из-за которых народы душили друг друга в продолжение шестидесяти столетий, представляют собой не что иное, как создание нашей фантазии, и первая обязанность свободного разума -- это сдать их в музеи и книгохранилища. Еще одно прекрасное открытие сделано мимоходом. Политическая история человечества «на протяжении шестидесяти столетий» имела своей движущей пружиной только «создание человеческой фантазии».
Утверждать, что человек, молясь Богу, молится собственной своей сущности, значит указать источник происхождения религии, но это еще не значит написать ее «биографию». Писать биографию религии -- значит писать ее историю, о6ъясняя при этом развитие той человеческой сущности, которая находит в ней свое выражение. Фейербах этого не сделал и не мог сделать. Прудон, вздумавший подражать Фейербаху, был далек от того, чтобы понять недостаточность его точки зрения. Все, что ему было доступно. -- это принять Фейербаха за Канта и самым жалким образом подражать своему Канту-Фейербаху, Он слышал, что Бог -- одна лишь выдумка, и отсюда он мигом пришел к заключению, что и государство одна лишь выдумка. Если нет Бога, то почему бы существовать государству? Прудон хотел бороться против государства; и начинает он прямо с заявления, что такового нет. Этого было достаточно, чтобы читатели «Voix du Peuple» захлопали в ладоши, а враги господина Прудона пришли в ужас от глубины его философской мысли. Настоящая трагикомедия!
Для современного нам читателя почти лишне прибавлять, что, объявляя государство выдумкой («фикцией»), мы тем самым совершенно лишаемся возможности понять его «сущность» или объяснить его историческое развитие. Это и случилось с Прудоном.
«В строе всякого общества я различаю два вида конституции; одну я называю социальной конституцией, другую -- политической.
Первая из них самым тесным образом связана (intime) с человечеством, она либеральна, прогрессивна, и ее прогресс заключается, главным образом, в том, чтобы освободиться от второй, которая по природе своей значительно более произвольна, ретроградна и более угнетает. Социальная конституция -- не что иное, как равновесие интересов, опирающихся на свободный договор и на организацию экономических сил, -- интересов, каковы, в общем, труд, разделение труда, коллективная сила, коикурренция, торговля, деньги, машины, кредит, собственность, равенство договоров, взаимность гарантий и пр.
Политическая конституция имеет своим принципом авторитет. Формы же ее: классовые различия, разделение власти, административная централизация, судейская иерархия, выборное представительство суверенитета (верховной власти) и пр. Она была придумана и мало-по-малу дополнена, в виду отсутствия социальной конституции, принципы и правила которой могли быть открыты лишь после долгого опыта и служат еще до сих пор предметом социалистических прений.
Легко убедиться, что обе эти конституции по природе своей совершенно различны и даже несовместимы; но так как судьба политической конституции беспрестанно вызывать и порождать конституцию социальную, то постоянно что - нибудь прокрадывается и водворяется из последней в первую. Тогда политическая конституция, ставши недостаточной, начинает казаться противоречивой и ненавистной и вынуждается к одной уступке за другой, вплоть до полного ее упразднения»14. Социальная конституция «самым тесным образом связана» с человечеством, она необходима ему. Тем не менее, ее удалось открыть лишь после долгого опыта, и за неимением ее, человечество должно" было изобресть «конституцию политическую». Разве это не совершенно утопическое представление о человеческой природе и тесно с ней связанной социальной организации? Не возвращаемся ли мы, таким образом, к точке зрения Морелли, по которому человечество на всем про-тяжении своей истории всегда было «вне природы»? Нам даже нет необходимости возвращаться к нему, так как, имея дело с Прудоном, мы ни на минуту не удалялись от Морелли. Смотря свысока на утопистов и их поиски «лучших форм правления», Прудон отнюдь не осуждает их точки зрения. Он лишь высмеивает недостаток прозорливости у людей, не разобравших, что самая лучшая политическая организация -- это отсутствие всякой политической организации; что это наиболее соответствующая человеческой «природе», наиболее необходимая и наиболее «тесно связанная» с человечеством социальная организация.
По своей природе социальная конституция совершенно отлична от конституции политической и даже несовместима с нею. Тем не менее, такова «судьба» политической конституции -- постоянно вызывать и производить социальную конституцию. Это чрезвычайно запутано; мы, однако, выйдем из затруднения, предположив, что Прудон хотел этим сказать: политическая конституция влияет на развитие социальной. Но тут неминуемо возникает вопрос: не коренится ли политическая конституция, как признал уже Гизо, в социальной конституции данной страны? По нашему автору -- нет; тем более нет, что социальная организация, -- как единственная и истинная, -- лишь дело будущего. Ведь лишь за отсутствием ее бедному человечеству пришлось выдумать себе политическую конституцию. Помимо этого, «политическая конституция» Прудона обнимает весьма обширную область: она включает в себя даже «различение классов», а вследствие этого и «неорганизованную» собственность, -- собственность в том виде, в каком она не должна бы существовать, собственность нашею времени. И так как вся эта конституция выдумана лишь в ожидании анархической организации общества, то, очевидно, что вся предыдущая история человечества была не чем иным, как громадным заблуждением. Государство уже не чистая фикция, как утверждал Прудон в 1849 г.; точно так же и «политические формулы, из-за которых в течение шестидесяти веков народы и граждане душили друг друга», уже не «плоды нашего воображения», как полагал тогда тот же Прудон, но эти формулы, подобно государству и вообще политической конституции, -- лишь продукт человеческого невежества, матери всех фикций и фантазий. В сущности, каждый раз повторяется та же история. Главная суть в том, что анархическая («социальная») организация общества могла быть открыта лишь «после долгого опыта». Читатель теперь видит, как это печально.
Политическая конституция имеет бесспорное влияние на социальную организацию; по крайней мере, она ее вызывает, и именно в этом заключается обнаруженная Прудоном, учителем кантовской философии и социальной организации, «судьба» политической конституции. Отсюда можно было бы придти к следующему логическому выводу: приверженцы социальной организации, для достижения своей цели, должны пользоваться и политической организацией. Но как ни логичен этот вывод, он все-таки не по вкусу нашему автору. Для него этот вывод лишь плод нашего воображения Пользоваться политической конституцией означало бы приносить жертвы грозному богу власти, означало бы принимать участие в борьбе партий. Ничего подобного Прудон не желает. «Никаких партий больше, никакой власти, абсолютная свобода человека и гражданина: вот, -- говорит он, -- в трех словах наш политический и социальный символ веры».
Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Кто не хочет слышать о политической борьбе, тот этим самым отказывается принимать какое бы то ни было участие в классовой борьбе. Это случилось с Прудоном. С самого начала революции 1848 года он пропо-ведывал примирение классов. Примером может служить отрывок из циркуляра, с которым он обратился к избирателям департамента Ду 3-го апреля того же года.
«Социальный вопрос поставлен, вы не уйдете от него. Для разрешения его нужны люди, у которых самая радикальная мысль соединялась бы с самой консервативной. Рабочие, подайте руки вашим хозяевам, а вы, работодатели, не оттолкните руки тех, кто получал от вас заработную плату». Человек, в котором, по мнению Прудона, крайность радикальной мысли сходилась с крайностью консервативной, был он сам, П. Ж. Прудон. В этой идее, с одной стороны, кроется «фикция», свойственная всем утопистам, воображавшим, что они могут подняться над классами и их борьбой, и весьма наивно полагавшим, что вся дальнейшая история человечества должна свестись к мирной пропаганде их нового евангелия.
Но, с другой стороны, это стремление связать консерватизм с радикализмом яснее всего характеризует «сущность» «родоначальника анархии». Прудон был самым типичным представителем социализма мелкой буржуазии.
Такова уже «судьба» мелкого буржуа -- колебаться вечно между радикализмом и консерватизмом, если он не становится на точку зрения пролетариата. Для того, чтобы это лучше понять, нужно вспомнить, в чем состоял план социальной организации, предложенный Прудоном.
«Тот путь, на который мы намерены вступить при обсуждении политического вопроса и подготовке материалов для пересмотра конституции, будет тот же, по которому мы шли до сих пор при обсуждении социального вопроса. «Voix du Peuple», продолжая дело 2-х журналов, ему предшествовавших, добросовестно пойдет по их стопам»15.
«Что же мы сказали в этих двух журналах, павших один за другим под ударами реакции и осадного положения? Мы не спрашиваем, как это делали до сих пор наши предшественники и единомышленники: какова самая лучшая система общественности? какова самая лучшая организация собственности? или -- какое лучшее понятие собственности или общественности? Что мы примем из теорий Сен-Симона или Фурье, из систем Луи Блана или Кабэ? По примеру Канта мы ставили вопрос так: как владеет человек собственностью? как он ее приобретает и как теряет ее? каков закон ее развития и превращения? Куда она стремится? чего хочет, и что, наконец, она собой представляет?.. Далее, -- как работает человек? Каким образом происходит сравнение продуктов? Как совершается их обращение в обществе? При каких условиях? По каким законам? И вывод из всей этой монографии о собственности был следующий: собственность указывает на производство или на распределение; общественность -- на взаимность действий; постоянно понижающийся рост (процент) -- на идентичность труда и капитала (Sic!). Что нужно сделать для того, чтобы раскрыть и придать реальное значение всем этим выражениям, скрытым до сих пор в устарелых символах собственности? Рабочие должны взаимно гарантировать друг другу работу и сбыт; для этой цели они должны признавать свои взаимные обязательства, как деньги. Итак, мы говорим сегодня: политическая свобода, как и свобода промышленная, будет вытекать для нас из взаимных гарантий. Гарантируя друг другу свободу, мы избегнем этого правительства, назначение которого -- символически изображать республиканские девизы: свобода, равенство, братство, при чем предоставляется нашему остроумию найти осуществление этих девизов. Какова же формула этой политической и либеральной гарантии? Теперь -- всеобщее избирательное право, потом -- свободный договор. Экономическая и социальная реформа посредством взаимной гарантии кредита; политическая реформа путем соглашения индивидуальных свобод, -- вот программа «Voix du Peuple»16. Прибавим, что не трудно набросать «биографию» этой прграммы. В обществе товаропроизводителей обмен продуктами совершается на основе общественно-необходимого для их производства труда. Труд -- источник и мерило меновой стоимости. Всякому человеку, проникнутому теми идеями, какие вырабатываются в обществе товаропроизводителей, -- это покажется самым «справедливым». К несчастью, однако, эта «справедливость» не «вечна», как и все на земле. Развитию товарного производства неминуемо сопутствует превращение большей части общества в пролетариев, ничего не имеющих, кроме своей рабочей силы, а другой части общества -- в капиталистов, покупающих эту силу -- единственный товар пролетариев -- и делающих из нее источник своего обогащения. Работая для капиталиста, рабочий создает доход своего эксплоататора и в то же время -- свою собственную нищету и свою собственную социальную зависимость. Достаточно ли это несправедливо? Защитник прав товаропроизводителей, Прудон, сожалеет об участи пролетариев. Он громит капитал. В то же время, однако, он громит и революционные тенденции пролетариев, говорящих об экспроприации эксплоататоров и о коммунистической организации производства. Коммунизм -- несправедливость, отвратительнейшая тирания! Организовать нужно не производство, а обмен, уверяет он. Но как организовать обмен? Это очень легко, и путь нам укажет то, что ежедневно разыгрывается перед нашим озабоченным взором. Труд есть источник и мерило ценности товаров. Но всегда ли цена товаров определяется ее ценностью? Не меняется ли постоянно цена в зависимости от редкости или обилия товаров? Стоимость товара и его цена -- две различные вещи, и в этом несчастье, большое несчастье всех нас бедных и честных людей, не желающих ничего, кроме своего права, стремящихся владеть лишь тем, что нам следует. Чтобы разрешить социальный вопрос, нужно, следовательно, положить конец «произвольности цены», «аномалии стоимости» (подлинное выражение Прудона). А поэтому нужно «конституировать стоимость», т.-е. устроить, чгобы каждый производитель получал за свой товар ровно столько, сколько он стоит. Тогда частная собственность не только перестанет быть «воровством», но она будет наиболее соответствующим выражением справедливости. Конституировать стоимость -- значит конституировать мелкую частную собственность, а когда мелкая частная собственность будет конституирована, в нашей нынешней юдоли нищеты и несправедливости все станет счастьем и справедливостью. А как же быть, если пролетарии вздумают возразить, что у них нет средств производства? При помощи взаимной гарантии безвозмездного кредита все желающие работать, точно по мановению волшебного жезла, получат все необходимое для производства.
Мелкая собственность и раздробленное мелкое производство, его экономический базис, были всегдашней мечтою Прудона. Громадная современная механическая мастерская всегда ему внушала глубокое отвращение. Работа, -- говорит он, -- также, как и любовь, избегает «общества». Конечно, есть несколько видов индустрии, -- Прудон приводит в пример железные дороги, -- где ассоциация неизбежна. Там единичный производитель должен уступать место «обществам рабочих». Но исключение лишь подтверждает правило17. Мелкая частная собственность должна служить основой социальной организации.
Мелкая частная собственность имеет тенденцию исчезнуть. Поддерживать ее и, тем более, класть ее в основу новой социальной организации -- это самый крайний консерватизм. Желать же одновременно положить конец «эксплоатации человека человеком» и наемной системе -- это, в сущности, значит соединять самые радикальные желания с самыми консервативными тенденциями,
Мы не будем здесь критиковать этой мелко-буржуазной утопии. Мастерская критика ее уже дана в произведениях Маркса: «Нищета философии» и «К критике политической экономии». Мы лишь заметим следующее:
Единственное звено, связующее в экономической области товаропроизводителей, это -- обмен. С юридической точки зрения обмен является взаимоотношением двух «воль». Оно выражается договором. Поэтому, «конституированное» по всем правилам науки товаропроиз-водство есть господство «абсолютной» индивидуальной свободы: обязываясь договором исполнить ту или другую вещь, доставить тот или дру-гой товар, я не отказываюсь от своей свободы. Отнюдь нет. Я использую ее, чтобы вступить в сношения со своим ближним. Но в то же время договор регулирует мою свободу. Исполняя обязательство, добровольно на себя наложенное заключением договора, -- я отдаю должное правам других. Таким образом, «абсолютная« свобода делается адекватной «порядку».
Примените понятие договора при критике «политической конституции», -- и вы получите «анархию».
«Идея договора исключает идею господства... Договор, взаимное соглашение, характеризуется тем, что, благодаря этому соглашению, увеличиваются свобода и счастье людей, между тем как установлением власти то и другое уменьшается... Если уже договор в обыденном смысле и в повседневной практике имеет такие свойства, то каков же будет социальный договор, который объединит между собой членов одной национальности в равных интересах?
Социальный договор -- возвышеннейший акт, посредством которого каждый гражданин предоставляет в распоряжение общества свою любовь, свой ум, свой труд, свои услуги, свои продукты, свое имущество -- в обмен на жертвы, идеи, труды, продукты, услуги и имущество других людей, при чем размер права каждого определяется стоимостью его вклада, и погашение происходит свободно, в зависимости от количества доставленного... Социальный договор подлежит свободному обсуждению всех его участников, он должен быть индивидуально одобрен каждым и собственноручно («manu propria») подписан... Социальный договор по существу подобен меновому: он не только оставляет заключившему его (подписавшему) полномерность («l"integra-lite») его благ, но он еще прибавляет нечто к его собственности; не делая никаких предписаний его труду, он относится только к обмену... Таков должен быть социальный договор по определениям права и всеобщей практики»18.
Признав бесспорным и существенным принципом, что договор -- «единственные моральные узы, приемлемые для равных и свободных личностей», весьма легко смастерить «радикальную» критику «политической конституции». Предположим, напр., что дело идет о справедливости уголовного права. Скажите, -- спросил бы Прудон, -- на основании какого договора общество присваивает себе право карать преступника?
«Где нет соглашения, там пред внешним судейским креслом нет места ни преступлению, ни проступкам... Закон есть выражение народного суверенитета, т.-е. социальный контракт, если только я что-нибудь в этом понимаю, есть личное обязательство человека и гражданина. Пока я не хотел этого закона, пока я на него не соглашался, не голосовал за него, не подписывал его, до тех пор он меня не обязывает и для меня не существует. Привлекать закон прежде, чем я его знаю, и применять его ко мне, несмотря на мой протест, значит давать ему силу обратного действия и преступать его. Каждый день случается вам отменять приговоры из-за формальной ошибки. Но в ваших актах нет ни одного, который не был бы запятнан клеймом недействительности и притом самой чудовищной недействительности: подтасовкой законов. Пуфлар, Ласнер, все преступники, которых вы отправляете на казнь, поворачиваются в своих могилах и обвиняют вас в подделке закона. Что вы можете им ответить?»19
Идет ли речь об «администрации» и полиции, Прудон затягивает ту же песню о договоре и свободном присоединении к нему.
«Разве мы не можем так же хорошо, даже лучше заведывать нашей собственностью, сводить наши счета, погашать наши обязательства, вступаться за наши общие интересы, как мы заботимся о будущей жизни и о спасении наших душ? Почему нам должно быть больше дела до государственного законодательства и государственной юстиции, до государственной полиции и государственной администрации, чем до государственной религии?»20
Что касается министерства финансов, то ясно, что его право на существование обусловлено существованием других министерств. Уничтожьте политическую запряжку, и вы не будете знать, что делать с ведомством, единственная цель которого изыскивать для нее средства и распределять их21.
Это логично и «радикально», тем более «радикально», что формула Прудона о конституированной стоимости, о свободном договоре есть формула «универсальная», легко и даже по необходимости приме-нимая ко всем народам. «С политической экономией, в самом деле, повторяется то же, что и с другими науками: она, в силу необходимости, одна и та же во всем мире, она независима от соглашений людей и народов и не подчиняется ничьему капризу. Столь же мало можно говорить о русской, английской, татарской, австрийской или индусской политической экономии, как о венгерской, немецкой или американской физике или геометрии. Истина везде остается тождественна себе самой: наука есть основная единица человеческого рода. Если, таким образом, общественной нормой в каждой стране служит не наука, не религия, или власть, и не они -- верховные блюстители общественных интересов, то, следовательно, после упразднения правительственной системы законодательства всего мира будут совпадать» 27A.
Довольно. «Биографию» того, что Прудон называет своею программой, мы теперь знаем вдоволь. В своей «экономической части» она не что иное, как утопия мелкого буржуа, твердо убежденного в том, что товарное производство есть самый «справедливый» из всевозможных способов производства, желающего вытравить его дурные стороны (отсюда его «радикализм») и, наоборот, сохранить на вечные времена его преимущества (отсюда его «консерватизм»). В политической своей части эта программа представляет лишь применение понятия о «договоре», почерпнутого из области частного права общества товаропро изводителей, -- к общественным условиям. «Конституированная стоимость» в экономии, «договор» в политике -- вот вся научная «истина» Прудона. Как бы он ни нападал на утопистов, но он сам утопист до кончиков ногтей. Что его отличает от таких людей, как Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн, это -- бедность и крайняя ограниченность ума, ненависть ко всяким действительно революционным движениям и идеям.
Прудон критиковал политическую конституцию с точки зрения частного права. Он хотел увековечить частную собственность, а государство, эту опасную «фикцию», разрушить навсегда. Уже Гизо сказал, что корень политической конституции государства -- в господствующих в нем имущественных отношениях. По Прудону же -- политическая конституция обязана своим происхождением «человеческому невежеству», она «выдумана» лишь за неимением открытой, наконец, им, Прудоном. лета от Рождества Христова такого-то -- «социальной организации». Он судит о политической истории человечества, как утопист.
Но утопическое отрицание действительности отнюдь не защищает нас от ее влияния. Отрицаемая на одной странице утопистского произведения, она вознаграждает себя на другой, часто выступая во всей своей наготе. Так, Прудон, как мы видели, «отрицает» государство. «Нет, нет, -- бесконечно повторяет он, -- я не хочу никакого государства, не желаю его даже и в качестве слуги; я отказываюсь даже от народного самоуправления». А между тем -- о ирония действительности! -- знает ли читатель, как «представляет» себе он, Прудон, конституцию стоимости? Это любопытная история.
Конституция стоимости состоит в продаже по справедливой цене, по «цене издержек»22. Если купец отказывается производить свои товары по цене издержек, то только потому, что не имеет уверенности продать столько, сколько нужно для составления его дохода; кроме того, он не гарантирован, что получит обратно затраченную на свои покупки сумму. Ему, следовательно, нужны гарантии. А эти гарантии могут «существовать в различных видах». Вот один из них.
«Предположим, что временное правительство или учредительное собрание... возымели бы серьезное намерение восстановить течение дел, вновь оживить торговлю, промышленность, сельское хозяйство, приостановить понижение цен на собственность и доставить работу рабочим... Это было бы возможно, если, примерно, первым десяти тысячам предпринимателей, фабрикантов, мануфактуристов, купцов и т. д. всей республики было бы гарантировано пять процентов на капитал, который каждый из них -- до 100.000 франков в среднем -- вложил бы в дело. Ясно, что государство...22
Довольно! «Ясно, что государство» навязывается Прудону, по крайней мере, «слугой»; и это с такой неотразимой силой, что наш автор в конце концов сдается и торжественно восклицает:
«Да, я громко это говорю: рабочие ассоциации в Париже и департаментах держат в своих руках благо народа и будущность революции. Для них все возможно, если они будут действовать с умением. Новый подъем энергии внесет свет в самые упрямые головы и на выборах 1852 г. (он писал это летом 1851 г.) в порядке дня, и даже во главе его, должна быть поставлена конституция стоимости»23.
Итак, «нет больше партий! нет политики!» когда дело идет о классовой борьбе, и... «да здравствует политика, да здравствует избирательная агитация, да здравствует вмешательство государства!» когда дело касается осуществления плоской и тощей утопии Прудона. «Destruam et aedificabo», говорит Прудон о себе, -- «я буду разрушать и вновь созидать». В этих словах много пышного тщеславия, столь свойственного Прудону. С другой же стороны, в них -- мы употребим изречение Фигаро -- самая истинная истина, какую он когда-либо в жизни высказывал. Он «разрушает» и он же «созидает». Но тайна его «destructio» совершенно раскрывается формулою: «договор разрешает все проблемы». Тайна же его «aedificatio» лежит в прочности социальной и политической буржуазной действительности, с которой он тем легче примиряется, что ему не удается «вырвать» у нее ни одной из ее «тайн».
Прудон не желает ничего знать о государстве. И тем не менее -- независимо от практических предложений, вроде конституции стоимости, с которыми он обращается к противной ему «фикции» -- он сам в теории вновь созидает государство, едва успев его «разрушить». То. что он отнимает у «государства», он преподносит «общинам» и «департаментам». На место одного большого государства возникает множество мелких; вместо одной большой «фикции» -- много маленьких. В конце концов анархия превращается в «федерализм», имеющий между прочими преимуществами и то, что успех революционных движений достигается в нем гораздо труднее, чем в централизованном государстве25. Этим заканчивается «всеобщая идея революции» Прудона.
Интересно, что «отец» прудоновской анархии -- никто иной, как Сен-Симон. Это Сен-Симон высказал, что цель социальной организация есть производство и что, следовательно, политическая наука должна свестись к политической экономии, что искусство «править людьми» должно уступить место искусству «управлять вещами». Он сравнил человеческий род с индивидуумом, который в детстве послушен своим родителям, в зрелом же возрасте кончает тем, что слушается только самого себя. Прудон завладел этой идеей и этим сравнением и с помощью конституции стоимости «построил» анархию. А между тем человек с плодотворным гением Сен-Симона первый в ужасе отшатнулся бы от того, что сделал из его политической теории социалистический мелкий буржуа. Современный научный социализм лучше сумел развить дальше теорию Сен-Симона. объясняя историческое происхождение государства, он именно этим указывает на условия его грядущего исчезновения.
«Государство было оффициальным представителем всего общества, оно объединяло его в одной видимой организации, но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества:
в древности -- государством граждан-рабовладельцев; в средние века -- феодального дворянства, в наше время -- буржуазии. Сделавшись, наконец, действительным представителем всего общества, оно станет излишним. Когда не будет общественных классов, которые нужно было удержать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда устранятся вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества -- обращение средств производства в общественную собственность -- будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения сделается мало-по-малу излишним и прекратится самой собой. Государство не будет «уничтожено» -- оно «умрет»26.