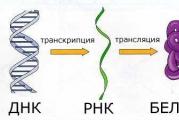Между римом и константинополем.
В истории часто бывает так, что события прошлого рассматриваются с точки зрения сильнейшего или сильнейших. Борьба Рима и Константинополя заслонила, отодвинула на второй план или даже вовсе устранила с исторической арены политические и религиозные идеи, увлекавшие в свое время целые народы. Между тем, само соперничество этих крупнейших центров предполагает наличие объектов, за которые идет борьба. В первую очередь это, конечно, земли, ранее входившие в состав Римской империи. После Великого переселения народов IV–VI веков объектом борьбы становились все народы, которые приняли христианство или которым его можно было навязать.
Христианство зародилось в условиях кризиса римского общества и питалось в первые века своего существования кризисом Римской империи. Условия его возникновения в общих чертах изложил Ф. Энгельс в критическом отзыве на работу о первоначальном христианстве Бруно Бауэра. Отзыв этот имеет и методологическое значение, а потому некоторые его положения стоит воспроизвести:
«Римское завоевание во всех покоренных странах, прежде всего, непосредственно разрушило прежние политические порядки, а затем, косвенным образом, и старые общественные условия жизни. Разрушило, во-первых, тем, что вместо прежнего сословного деления (если не касаться рабства) оно установило простое различие между римскими гражданами и негражданами или подданными государства; во-вторых, и главным образом, – вымогательствами от имени Римского государства. Если при империи в интересах государства старались по возможности положить предел неистовой жажде к обогащению со стороны наместников провинций, то вместо этого появились все сильнее действующие и все туже завинчиваемые тиски налогов в пользу государственной казны – высасывание средств, которое действовало страшно разрушительно. Наконец, в-третьих, римские судьи повсюду выносили свои решения на основании римского права, а местные общественные порядки объявлялись тем самым недействительными, поскольку они не совпадали с римским правопорядком.
Эти три рычага должны были действовать с огромной нивелирующей силой, особенно когда они в течение приблизительно двух веков применялись к народам, наиболее сильная часть которых была уже уничтожена или уведена в рабство в результате битв, предшествовавших завоеванию, сопровождавших его, а часто и следовавших за ним. Общественные отношения в провинциях все больше и больше приближались к общественным отношениям в столице и в Италии. Население все больше и больше разделялось на три класса, представлявшие собой смесь самых разнообразных элементов и народностей: богачи, среди которых было немало вольноотпущенных рабов…, крупных землевладельцев, ростовщиков, или тех и других вместе, вроде дяди христианства Сенеки; неимущие свободные – в Риме их кормило и увеселяло государство, в провинциях же им предоставлялось самим заботиться о себе; наконец, огромная масса рабов.
По отношению к государству, то есть к императору, оба первых класса были почти так же бесправны, как и рабы по отношению к своим господам. Особенно в период от Тиберия до Нерона стало обычным явлением приговаривать богатых римлян к смерти для того, чтобы присвоить их состояние. Материальной опорой правительства было войско, которое гораздо более походило уже на армию ландскнехтов, чем на старое римское крестьянское войско, а моральной опорой – всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или другой император, то основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью…
Всеобщему бесправию и утрате надежды на возможность лучшего порядка соответствовала всеобщая апатия и деморализация. Немногие остававшиеся еще в живых староримляне патрицианского склада и образа мыслей были устранены или вымирали… Остальные были рады, если могли держаться совершенно в стороне от общественной жизни. Их существование заполнялось стяжательством и наслаждением богатством, обывательскими сплетнями и интригами. Неимущие свободные, бывшие в Риме пенсионерами государства, в провинциях, наоборот, находились в тяжелом положении. Они должны были работать, да еще в условиях конкуренции рабского труда. Но они были только в городах. Наряду с ними в провинциях были еще крестьяне – свободные владельцы земли (местами, пожалуй, еще связанные с общинной собственностью) или, как в Галлии, крестьяне, находившиеся в долговой кабале у крупных землевладельцев. Этот класс меньше всего был затронут общественным переворотом; он всего дольше сопротивлялся и религиозному перевороту… Наконец, рабы, бесправные и безвольные, которые не могли освободиться, как это уже показало поражение Спартака; при этом, однако, большинство из них было некогда свободными или сыновьями свободнорожденных. Среди них, стало быть, должна была еще по большей части сохраняться живая, хотя внешне бессильная, ненависть против условий их жизни…
Таково было материальное и моральное состояние. Настоящее невыносимо; будущее, пожалуй, еще более грозно. Никакого выхода. Отчаяние или поиски спасения в самом пошлом чувственном наслаждении, по крайней мере, со стороны тех, которые могли себе это позволить, но таких было незначительное меньшинство. Для остальных не оставалось ничего, кроме тупой покорности перед неизбежным.
Но во всех классах должно было быть известное количество людей, которые, отчаявшись в материальном освобождении, искали взамен него освобождения духовного, утешения в сознании, которое спасло бы их от полного отчаяния. Этого утешения не могла дать ни стоическая философия, ни школа Эпикура, во-первых, потому, что это были философские системы, рассчитанные, следовательно, не на рядовое сознание, а затем, во-вторых, потому, что образ жизни их приверженцев вызывал недоверие к учению этих школ. Для того чтобы дать утешение, нужно было заменить не утраченную философию, а утраченную религию. Утешение должно было выступить именно в религиозной форме, как и все то, что должно было захватывать массы, – так это было в те времена и так продолжалось вплоть до XVII века.
Едва ли надо отмечать, что среди людей, страстно стремившихся к этому духовному утешению, к этому бегству от внешнего мира в мир внутренний, большинство должны были составлять рабы. Во время этого всеобщего экономического, политического, интеллектуального и морального разложения и выступило христианство. Оно вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями.
Во всех религиях, существовавших до того времени, главным была обрядность. Только участием в жертвоприношениях и процессиях, а на Востоке еще соблюдением обстоятельнейших предписаний относительно приема пищи и омовений, можно было доказать свою принадлежность к определенной религии. В то время как Рим и Греция в этом отношении проявляли терпимость, на Востоке свирепствовала система религиозных запретов, которая немало способствовала наступившему, в конце концов, упадку. Люди двух разных религий – египтяне, персы, евреи, халдеи – не могут вместе ни пить, ни есть, не могут выполнить совместно ни одного самого обыденного дела, едва могут разговаривать друг с другом. Это отделение человека от человека было одной из основных причин гибели Древнего Востока. Христианство не знало никаких вносящих разделение обрядов, не знало даже жертвоприношений и процессий классической древности. Отрицая, таким образом, все национальные религии и общую им всем обрядность, обращаясь ко всем народам без различия, христианство само становится первой возможной мировой религией. Иудейство со своим новым универсальным богом тоже сделало попытку стать мировой религией. Но дети Израиля оставались все время аристократией среди верующих и обрезанных; и даже христианство должно было сначала освободиться от представления (которое еще господствовало в так называемом Откровении Иоанна) о преимуществах христиан из евреев, прежде чем оно могло стать настоящей мировой религией…
Во-вторых, христианство затронуло струну, которая должна была найти отклик в бесчисленных сердцах. На все жалобы по поводу тяжелых времен и по поводу всеобщей материальной и моральной нищеты христианское сознание греховности отвечало: да, это так, и иначе быть не может, в испорченности мира виноват ты, виноваты все вы, твоя и ваша собственная внутренняя испорченность! Ни один человек не мог отказаться от признания за собой части вины в общем несчастье, и признание это стало теперь предпосылкой духовного спасения, которое, одновременно было провозглашено христианством. И это духовное спасение было придумано таким образом, что его легко мог понять член любой старой религиозной общины. Всем этим старым религиям было свойственно представление об искупительной жертве, которая могла умиротворить оскорбленное божество. Как же могло не найти тут благоприятной почвы представление о посреднике, который добровольно приносит себя в жертву, чтобы раз навсегда искупить все грехи человечества… В жертвенной смерти своего основателя христианство создало легко понятную форму внутреннего спасения от испорченного мира, утешения в сознании, к чему все так страстно стремились. Так христианство опять доказало свою способность стать мировой религией – к тому же религией, соответствующей как раз данному миру.
Так и случилось, что среди тысяч пророков и проповедников в пустыне, которые в то время создавали бесчисленное количество своих религиозных новшеств, успех имели только основатели христианства. Не только Палестина, но и весь Восток кишмя кишел такими основателями религий, среди которых господствовала, можно сказать, прямо по Дарвину борьба за идейное существование. Христианство победило главным образом благодаря изложенным выше моментам. А как оно постепенно, в борьбе сект между собой и с языческим миром, путем естественного отбора, все более утверждалось в качестве мировой религии, – этому учит во всех подробностях история церкви первых трех столетий» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 310–314).
За каждой строкой рассуждений Энгельса стоит огромный материал, воспроизводить который нет необходимости, но при случае иметь в виду надо. Энгельс отмечает, что религии древности «выросли из общественных и политических условий каждого народа и срослись с ними. Раз были разрушены эти их основы, сломаны унаследованные общественные формы, установленное политическое устройство и национальная независимость, то, разумеется, рушилась и соответствующая им религия… Как только национальные божества не могут уже более охранять независимость и самостоятельность своей нации, они сами ломают себе шею» (там же, с. 312). Здесь надо лишь отметить, что древние религии возникали в то время, когда всюду господствовала община, а противостояли ей силы природы. Со временем появляется необходимость в религиозном закреплении и социального опыта. Но с этими задачами ранние религии уже не в состоянии справиться. «Национальные боги, – говорит Энгельс, – могли терпеть рядом с собой других богов у других народов, – и в древности это было общим правилом, – но отнюдь не над собой». Усиление межплеменных столкновений приводит к появлению в племенных или народных верованиях воинственных божеств, обычно требовавших кровавых жертв. Но воинственность этих богов обычно направлялась вовне. Для разрешения внутренних противоречий язычество, как правило, никакими средствами не располагало. Наиболее развитое язычество лишь следовало за расслоением, выделяло жреческие корпорации, распределяло по кастам, выстраивало иерархию соподчинения но, по существу, не давало выхода чувствам социального протеста. В конечном счете, в государствах Востока язычество трансформировалось в идеологическое прикрытие деспотизма оторванной от народа власти, а стремление к монотеизму удовлетворяло именно потребности иерархически выстроенной деспотической власти. Именно таковым был и монотеизм иудаизма, в рамках которого и в качестве реакции на который формировалось христианство.
В иудаизме с ясной последовательностью отразилась двойная мораль рабовладельческого общества, с противопоставлением одного племенного бога всем остальным как низшим созданиям и «избранного» народа всем другим народам, обреченным на совершенное бесправие по отношению к народу-господину. Естественно, что такого рода притязания ожесточали отношения со всеми соседями, а также в рамках самих претендентов на господство, так как здесь также выстраивалась иерархия, и ближайшим объектом эксплуатации оказывались собственные сородичи, обреченные на неполноправие замысловатыми генеалогиями, сочиненными жрецами храма Соломона. С положением внизу иерархии народа-господина еще можно было мириться, пока сохранялась возможность эксплуатации иноплеменников, но оно становилось нетерпимым, едва такая возможность затруднялась или даже исчезала вовсе, как это было в эпоху возникновения Империи и завоевания Иудейского царства Римом. Восстание 66–73 годов против Рима выявило непримиримые противоречия между поборниками исключительности и сторонниками равенства и равноправия как внутри иудаистской общины, так и в отношении к другим народам.
Нереальность иудаистских целей и идей в условиях римского владычества заставляла обращаться к греческой философии. В создании христианства особенно сказались идеи стоицизма и неоплатонизма. Стоическая философия просуществовала почти тысячелетие с IV века до н. э. по VI век нашей эры. В разные периоды она меняла содержание. Но главное, что отличало стоиков – внимание к моральным проблемам. Самоотречение и аскетизм заимствованы христианством именно из учений стоиков. Не случайно, что александрийского еврея Филона, жившего в конце I века до н. э. и первой половине I в. н. э. и соединявшего иудаизм с греческой философией, называют «отцом» христианства, а римского стоика Сенеку – его «дядей».
Христианство распространялось довольно быстро среди разных народов и социальных слоев Империи. И естественно, что повсюду оно принимало специфические очертания, связанные с местными языческими и иными традициями. На Востоке оно было проникнуто мистикой. Запад к мистике относился с меньшей расположенностью. Именно поэтому, как указал Энгельс, христианство не восприняло непосредственно идеи Филона: «Новый Завет почти полностью пренебрегает главной частью этих произведений, а именно аллегорически-философским истолкованием ветхозаветных рассказов» (там же, с. 309). С самого начала как бы сталкиваются мистическое и рационалистическое направления в христианстве, а переплетения их создают многочисленные варианты. Некоторые акценты проявляются уже в Евангелиях. Еще шире расхождения в посланиях апостолов. С возникновением церковной организации возникла проблема: что принять как «каноническое» и что отвергнуть как апокрифы. Естественно, что единодушия по таким вопросам быть не могло, тем более что расхождения религиозно-культурных традиций постоянно осложнялись социальными противоречиями. Создание церковной организации, возникновение иерархии внутри христианства само по себе уже противоречило основополагающим идеям христианства о равенстве всех представителей человеческого рода (хотя бы только и перед Богом). С этими противоречиями христианство и вступает в свою почти теперь уже двухтысячелетнюю историю.
Раннее христианство не знало иерархии священства. Место священников в общинах занимали учителя, пророки, проповедники, апостолы, выходившие обычно из рядовой массы и отличавшиеся способностью творить чудеса, исцелять, вести за собой. Никаких материальных преимуществ такие учителя и пророки обычно не имели, тем более что в ранних общинах богатство осуждалось, а совместные трапезы, вечери любви должны были гасить стремления к индивидуальному насыщению – буквальному и переносному. Общины стремились воплотить и на земле призывы евангелистов: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие божие» (Евангелие от Марка), или: «Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете» (Евангелие от Луки).
Однако христианские общины не могли сохранить идеи равенства, тем более что сами эти общины часто не имели хозяйственно-производственной основы, объединяя лиц, занятых в разных сферах и принадлежащих к разным социальным группам. Перевес уравнительных тенденций поначалу обеспечивался лишь преобладанием в общинах выходцев из социальных низов. По мере распространения христианства среди зажиточных слоев неизбежно менялось и отношение к богатству. Да и практическая деятельность общины вела к тому, что на первый план стали выходить не пророки, а пресвитеры, ведавшие хозяйством общины. Именно хозяйственная деятельность на первых порах создала штат диаконов, кладовщиков, надзирателей-епископов.
Два типа общинной власти неизбежно должны были столкнуться между собой. Оценить эти столкновения с точки зрения перспектив развития нелегко. Пророки опирались на идеи равенства, но вносили в жизнь общин, по выражению Энгельса, «сумбурный фанатизм», «множество видений и пророчеств». Восточная мистика расцветала в ранних христианских общинах пышным цветом, часто совершенно уводя единоверцев от реальных жизненных проблем. В такой интерпретации новая религия становилась, так сказать, чистым опиумом народа, много уступая в трезвости, скажем, иудаизму – религии «практической потребности» (К. Маркс), поначалу не предусматривавшей даже и загробного мира.
Епископат изначально придерживается более трезвых, рациональных взглядов хотя бы в силу необходимости решения практических вопросов ведения хозяйства и установления отношений с властью и другими общинами. Борьба за влияние придает этим расхождениям и принципиальный характер: на протяжении всей истории церковь будет бороться с тем, что называется «вневероисповедной мистикой».
Абсолютизировать эти расхождения, конечно, нельзя, так как стержнем любой религии является мистика. Речь может идти, так сказать, о мере, удельном весе потустороннего в повседневной жизни. В позднейшей же истории церкви часто борьба шла между приверженцами разных мистических представлений. В свое время это обстоятельство отметил и остроумно обыграл Вольтер: «Архиепископ Кентерберийский утверждает, что Парижский архиепископ суеверен; пресвитериане бросают тот же упрек монсеньору Кентерберийскому и, в свою очередь, слывут суеверными у квакеров, которые в глазах остальных христиан являются самыми суеверными из всех».
Следует иметь в виду и то, что мистика часто претендует на роль особой формы научного знания, подобно тому, как хранили неосмысленные знания некогда жрецы, маги, знахари и колдуны. Но едва «чудеса» становятся средством существования касты прорицателей, как немедленно на первый план выходит шарлатанство. В свое время известный философ-идеалист B.C. Соловьев опубликовал воспоминания о встречах с не менее известной основательницей некой новой религии – теософии – Е.П. Блаватской. Блаватская оказалась откровенной с собеседником. Чтобы владеть людьми, – говорила она, – необходимо их обманывать. Если бы не феномены, я давным-давно околела бы с голоду… Чем проще, глупее и грубее «феномен», тем он вернее удается. Громадное большинство людей, считающих себя и считающихся умными, глупы непроходимо». Поклонники же «учения» Блаватской не так уж редки и поныне.
Есть у мистики и иная сторона: она обычно направлена против церковной организации. На эту сторону мистики в свое время указал Энгельс. «Революционная оппозиция феодализму, – замечал он, – …выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт; многое заимствовал из нее также и Мюнцер» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 361). Но необходимо учитывать, какой именно стороной мистика могла становиться «революционной оппозицией». Мистика тогда выливается в пантеистические представления, опасные для господствующей церкви и направленные против нее. В этой направленности только и выражалась ее «революционность». В борьбе против реакционной организации естественно использовать все противостоящие ей силы. Но уход от реальности, в конечном счете, обязательно обернется невосполнимыми потерями даже и для прогрессивного по ближайшим целям движения.
Ранние христианские общины были проникнуты фанатичной ненавистью к «вавилонской блуднице» – Риму. Именно эта ненависть позволила Энгельсу характеризовать первоначальное христианстве как один из самых «революционных элементов в истории человеческого духа». Но никакой организованной оппозиции власти и строю христианские общины создать не смогли, да и не имели они достаточно ясного социального идеала. Отчасти именно поэтому решение проблем переносилось на небо, причем и загробное воздаяние выглядело лишь наказанием для одних и полной бездеятельностью для других, угодных Богу.
Организация, в конечном счете, могла быть привнесена именно епископатом. Но это была иная организация. Там, где решаются хозяйственные вопросы, не может быть упрощенного осуждения богатства как главного источника зла, хозяйственники, как правило, рекрутировались из «богатых» или же становились таковыми в результате своей практической деятельности. Там же, где создается определенная иерархия, обычно исчезает непримиримость в отношении к иерархии существующей власти. В таком виде христианство уже не пугало правящий класс Империи. Более того. Христианство стало возможным использовать для консолидации разрываемого противоречиями общества, тем более что ненависть к угнетателям все далее оттеснялась призывами к терпению, непротивлению злу, любви к врагам.
«Нет церкви без епископата» – этот тезис приписывается жившему в конце I – начале II века антиохийскому епископу Игнатию Богоносцу. Идея, высказанная на Востоке, скоро получила поддержку епископата всех областей Империи. В конечном счете, и прорицатели, и епископы стремятся опереться на традиционные верования. Епископы, в частности, использовали языческие представления о священной собственности богов, скапливавшейся обычно в храмах, посвященных этим богам, а фактически становившейся достоянием касты жрецов. Теперь функции жрецов переходят к епископату.
Вопрос о церковной собственности также, естественно, вызывал разногласия, нередко очень острые. Споры внутри церкви давали возможность светской власти вмешиваться в дела христианских общин и в ряде случаев демонстрировать более высокую справедливость, чем действия некоторых ревнителей учения Христа. При императоре Валенсе в 370 году, в целом поддерживавшем христианство, осуждались те, кто использует в корыстных целях «религиозные чувства мужчин и слабости женщин». Лицам духовного звания запрещалось, в частности, принимать завещания и дарения, сделанные вдовами и женщинами, если при этом оказывались задействованными духовные лица. Спустя 20 лет император Феодосий I (375–395) квалифицировал нарушения этого установления как хитроумный обман со стороны духовенства. Но эти запретительные меры не могли остановить самой тенденции. Они лишь побуждали склонное к стяжательству духовенство искать компромиссов и сотрудничества с властями. В IV веке союз государства и церкви в основном складывается, и после Юлиана (381–363) прямых гонений на христиан со стороны имперской власти уже не будет.
Христианство распространялось с Востока на Запад, и первое время христиане в Риме пользовались греческим языком и в значительной мере из греков же и состояли. Но Рим довольно скоро стал претендовать на первенство в христианской церкви, поскольку здесь была столица Империи. Эти притязания поддерживались и некоторыми императорами, даже остававшимися враждебными по отношению к христианству. С переносом столицы на Восток в город Константина – Константинополь – притязания Рима разбиваются о реальную мощь восточных епископств и митрополий. Митрополии возникают как высшее звено церковной иерархии. Поначалу таковыми были Рим, Александрия и Антиохия, затем к ним присоединились Константинополь и восстановленный в IV веке Иерусалим. Позднее эти города станут центрами самостоятельных патриаршеств. Таким образом, возникнет еще одно высшее звено в церковной иерархии.
Примерно с IV века римская церковь для поднятия своего авторитета стала использовать имя апостола Петра, который якобы был первым римским епископом, погибшим во времена преследования христиан Нероном (54–68 гг.). В действительности епископат ко временам Нерона еще не сложился, а сама община в Риме в то время состояла в основном из иудео-христиан, которые, кстати, чтили апостола Петра и почитали «лжеапостолом» его брата Павла, настаивавшего на резком отделении христиан от иудеев, а также наиболее последовательно проводившего идею равенства народов и разных социальных слоев перед Богом.
«Князь апостолов» Петр почитался как «наместник Христа», владевший «ключами от царства небесного». Именно отталкиваясь от такого представления, римские епископы и папы позднее претендовали на роль «наместника Бога на земле». Притязания же эти по-своему подкрепило соперничество иерусалимской общины (где долго оставалось сильным влияние иудео-христиан), которая также считала своим основателем апостола Петра, причем основал такую общину апостол якобы еще до отъезда в Рим. Соперничество Рима и Иерусалима как бы исключало остальные христианские центры из числа возможных претендентов на роль непосредственных божьих наместников. И в какой-то мере именно это соперничество побудило римских епископов, поддерживая культ Петра, обратиться также к посланиям Павла, осуждавшего сохранявшиеся в христианстве элементы иудаизма. В конце II века римский епископ Виктор I потребовал отказа христиан от празднования Пасхи в один день с евреями. По этому поводу в Риме был созван синод из представителей Запада и Востока. Но общины Востока не приняли требований римского епископа. Лишь столетием спустя здесь побеждает идея размежевания с иудеями, да и то не везде.
Притязания на первенство побуждали руководителей римской общины выступать с разного рода инициативами в толковании «истинной» веры. Уже во II веке объектом рационалистической критики становится постулат о Троице, и тот же Виктор I протестовал против внесения в мистическую формулу каких-либо элементов «от разума». Каликст I в начале III столетия разработал формулу «таинства крещения», как «духовного, вторичного рождения», в конечном счете, усвоенную христианским миром. Но тот же Каликст пробудил целый поток возражений слишком вольным толкованием правил и установлений раннего христианства. До сих пор священной книгой считался лишь Ветхий Завет, который, кстати, не принимали некоторые христианские общины, а также довольно представительные в Риме гностики – мистическое течение, пытавшееся соединить элементы христианства с некоторыми положениями античной философии и восточной магией.
Значительным влиянием пользовалось учение Маркиона (середина II века), настаивавшего на полном отрицании Ветхого Завета и признании иудейского бога Яхве как злое начало в мире. Поэтому встала задача отделения книг священных от несвященных, апокрифических. Именно теперь из большого круга христианской литературы отбирается так называемый Новый Завет, включивший четыре Евангелия и ряд апостольских посланий. Ветхий Завет при этом сохранил свое значение «боговдохновенной» книги. Внутренние противоречия в Священном Писании еще более возросли, и для усвоения его рядовыми христианами требовались не только проповеди, а и средства силового воздействия.
События в Империи складывались таким образом, что значение Рима как политического центра неумолимо падало. Восточная половина была богаче и выглядела устойчивее. С разделом Империи в 395 году политическое преобладание остается за «вторым Римом» – Константинополем, а Италия становится добычей варваров, в 410 году захвативших и сам Вечный город. Императоры продержатся здесь до 478 года, но власть их будет слабой, часто номинальной. На Востоке императорская власть помогла церкви укрепиться в качестве господствующей, но и вынудила ее признать примат светской власти над церковной. На Западе светская власть не предоставляла гарантий и побуждала церковь возвыситься над этой неэффективной властью. С наибольшей последовательностью идеи теократии выразил один из главных идейных столпов католицизма – Августин Блаженный (354–430).
Идея теократии заложена уже в «ключах от неба», из-за которых Рим так держался за «князя апостолов». Августин углубил разделение между землей и небом, введя понятие предопределения. Не все люди могут обрести спасение, поскольку часть их изначально предопределена к погибели. «Царству сатаны» – земному государству – Августин противопоставляет «Царство божие». На земле оно представлено только церковью, вне которой не может быть спасения.
Резкое разделение духовенства и мирян в католичестве, в конечном счете, восходит именно к учению Августина. Позднее в реформаторстве, особенно в кальвинизме, идея предопределения будет доведена до крайности, полностью исключающей возможность спасения от рождения обреченных на погибель. От Августина идет и идея преимущества веры перед знанием, иррационализм, преодолеть который попытается Фома Аквинский (1225–1274) – основатель так называемого томизма и позднее неотомизма (от имени богослова).
Притязания на первенство побуждали римских епископов искать и какой-то соответствующий титул. Епископ Марцеллин (296–304) первым назвал себя папой. «Отцом», «батюшкой» обычно называли себя епископы на Востоке, и римский епископ использовал греческое обозначение этого понятия в качестве титула. Правда, утвердился этот титул за римскими епископами лишь с VI века.
Реальных оснований под притязаниями римских епископов пока было еще очень мало. На соборах, неоднократно собиравшихся на протяжении IV столетия, Восток неизменно представлен был большим числом епископов, нежели Запад. Да и основные богословские споры шли все-таки на Востоке, где сильнее сказывались традиции античной и эллинистической науки и философии. Далеко идущие последствия имел спор, возникший в начале IV века в Александрии.
Для раннего христианства неизменно сложной была проблема установления субординации единого Бога, Творца вселенной, и его Сына Христа. Под влиянием платонизма и затем неоплатонизма многие богословы отводили Христу второе место в трехчленной формуле: Бог – Логос (то есть Слово, Разум), как связующее начало между Богом и миром, человечеством, и мироздание в его духовной сущности. В платонизме уже была своеобразная божественная трехчастность. Но там эти компоненты как бы размещались по трем ступеням. Предание о Христе-богочеловеке вроде бы бесспорно ставило Бога-Сына на вторую ступеньку или даже вообще низводило до положения мессии, божьего посланника. Но такая трактовка могла восприниматься как принижение роли того, чьим именем назывались последователи нового вероучения. Поэтому неизменно сохранялась тенденция во всем уравнять Бога-Отца и Бога-Сына. Так появилась версия единосущной Троицы, где третья ипостась отводилась Святому Духу. Версия эта пока «нигде не утверждалась, но получала все большее распространение. Именно против нее и выступил в 318 году александрийский священник Арий (ум. 336), давая Троице фактически неоплатоническую интерпретацию, то есть возвышая Бога-Отца над Богом-Сыном, а последнего над Святым Духом.
Решительным противником учения Ария выступил Афанасий Александрийский (ок. 295–373). Он написал ряд посланий против ариан, добивался искоренения ереси. Но, по существу, рациональных аргументов в его распоряжении не было, и «единосущность» он обязывал принять на веру, отнеся к таким мистическим понятиям, которые человеческому разуму недоступны.
В само понятие «единосущность» вкладывалось существенно различное содержание. В понимании того же Афанасия Александрийского главным было отличие божественного от небожественного, и за единосущностью стояло представление о божественной природе трех ипостасей без четкого обозначениях их взаимоотношения между собой. В таком виде «единосущность» включалась в Символ веры, принятый Никейским собором 325 года, причем с ним соглашались и некоторые сторонники Ария. Тем не менее, собор осудил Ария. Его самого и группу наиболее упорных последователей выслали в Иллирию, которая позднее и станет одним из главных центров арианства. Император Константин Великий сначала поддержал никейцев, но критика Афанасием его притязаний на цезарепапизм, то есть на соединение в одних руках светской и церковной власти, толкнула Константина на соглашение с арианами. Собор в Тире в 335 году осудил никейский Символ веры.
В общественной борьбе нередко малозначительные по существу расхождения как бы разводят людей по разные стороны баррикад и становятся символами и знаменами противоборствующих сторон. Понятие «единосущность» имело в греческом языке разные обозначения, поскольку различно понималось само единство. В спорах с Арием чаще других употреблялась формула «омоусиос», приверженцев которой называли «омусианами». Ариане же стали обыгрывать близко звучащее понятие «омойусиос», означающее «подобосущность», и их называли – «омии». Звук «йот» разделил два течения непереходимой стеной и стал как бы фокусом, куда сходились оба потока. Люди, далекие от богословских споров, безразличные к субординации Отца и Сына, стояли насмерть, либо защищая, либо отвергая «йот». Именно «омии», как называли последователей этого течения, преобладали среди варварских народов эпохи Великого переселения. И именно этот вариант арианства проникает в письменность Древней Руси.
В середине IV века римские епископы поддерживали никейский Символ веры, а восточные иерархи держались арианского. Следовали один за другим соборы со взаимными обвинениями и осуждениями за отступления от правой веры. Наконец, император Феодосий I созвал в 381 году собор в Константинополе и изъявил желание лично сравнить все символы. Было подано большое число так или иначе отличных друг от друга трактовок, углубляться в которые император вовсе и не собирался: он просто разодрал все, кроме поданного римским епископом и некоторыми его восточными коллегами. Последователям «единосущности» дозволялось принять наименование «кафолических» (вселенских) христиан, а всем прочим грозили наказаниями. Победители обрушили на побежденных всю мощь репрессивного аппарата Империи, разрушая храмы, разоряя библиотеки, уничтожая книги.
На Востоке арианство распространялось главным образом в городах среди торгово-ремесленного и вообще относительно развитого и грамотного населения. На Западе оно нашло прибежище у варварских племен, обрушившихся на Римскую империю. На Востоке арианство было спутником рационализма, реликтом античного наследия. На Западе ни то ни другое не могло дать преимущества арианству перед приверженцами никео-константинопольского символа. Но у арианства оказалась другая сторона – и доступная, и желанная для варваров.
Афанасий Александрийский, как было сказано, решительно разошелся с императором Константином по вопросу о месте церковной иерархии в государстве, настаивая, с одной стороны, на «независимости» церкви от светской власти, а с другой – на строгой иерархичности внутри ее. Варвары, у которых власть вообще еще не обособилась от народа, от общины, не могли принять церковную иерархию, претендующую, по существу, на верховное господство над всеми ими. Этим и может быть объяснен столь разительный факт: все варварские племена принимают христианство в арианском варианте.
В середине IV века среди готов распространял арианство Вульфила, переведший на готский язык Библию. Несмотря на противодействие приверженцев язычества, христианство в целом распространяется у готов довольно быстро. К тому же арианство связывалось с конкретными общинами, а потому конфликт их с язычниками не принимал особо острого характера. Довольно скоро арианство распространяется также у вандалов, аланов, ругов, лангобардов и других племен. «Вандализм» варваров в Италии – односторонняя оценка «правоверных» христиан, переживших жестокие разорения вандалов. Но сами вандальские вторжения в значительной мере были реакцией на преследования ариан со стороны государственной церкви. А эти преследования в «вандализме» ничуть не уступали вандалам.
В литературе обычно об арианах говорится только применительно к эпохе Великого переселения: IV–VI векам. Имеется в виду, в частности, то, что Теодорих – создатель королевства остготов в Италии (489–526) – пытался примирить готов с собственно итальянцами, слить их в едином государстве и ради этого готов был войти в соглашение с римскими и константинопольскими иерархами. Но затея Теодориха провалилась и даже послужила одной из причин быстрого развала государства. Очень многие готы покинули Италию, в частности и по религиозным соображениям.
В Испании вестготы начали переходить в католичество еще в VI веке, но арианские общины и здесь сохраняются до XI столетия. У лангобардов, сменивших готов в Северной Италии, в VI веке арианство господствовало безраздельно. В VII веке верхушка лангобардов начинает переходить в католичество. Но основная масса оставалась еще долго арианской. У ругов арианство известно с V века (в Ругиланде на Верхнем Дунае). Так что еще и в IX столетии римские папы особо обращались к «клирикам рогов» (то есть ругов), общины которых сохранялись в Северной Италии. Такое обособление может быть понято только в связи с сохранением у ругов арианства и системы выборности епископов, причем такое положение Риму приходилось терпеть в самом непосредственном соседстве.
Примечательно, что если в IV веке Рим упрекал восточные епархии в наклонности к арианству, то в VI–VII веках подобные упреки шли с Востока Риму, которому приходилось маневрировать перед лицом вооруженных отрядов варваров-ариан. Король остготов Теодорих в 526 году посылал даже папу Иоанна I в Константинополь просить за ариан Подунавья. В конце VI столетия римский папа вопреки призывам из Константинополя решительно противостоять «проклятым арианским пришельцам» – лангобардам стремился поддерживать с ними мирные отношения.
В самом Константинополе после собора 381 года ситуация многократно менялась. В Империи получило распространение монофизитство , отрицавшее двойственную природу Христа в пользу единого божественного. Монофизитство использовалось в провинциях ради обособления от Константинополя. На человеческой природе Христа настаивал сам патриарх Константинопольский Несторий, низложенный в 431 году. На соборах шла ожесточенная борьба различных группировок, представлявших, как правило, разные провинции, и в этой борьбе обычно вовсе не просматривался дух смирения, внушаемый иерархами простым смертным. Вплоть до Никейского собора 787 года по тем или иным вопросам вспыхивали острейшие схватки. В VIII столетии Империю потрясало, в частности, иконоборческое движение . Да и чисто политически претензии византийских императоров на господство над всеми провинциями бывшей Римской империи не могли быть подкреплены реальной силой. Юстиниану в середине VI века ценой колоссальных жертв и разорений удалось одержать победу над вандалами в Северной Африке и готами в Италии. Но даже для римских граждан такая победа означала ухудшение материального и морального положения. А потому и угроза лангобардского вторжения воспринималась, по существу, как альтернатива ничуть не лучшему господству ландскнехтов Константинополя.
Авторитету римских епископов-пап в большой мере способствовало принятие христианства франкским королем Хлодвигом в конце V века. И позднее франкские короли неизменно будут поддерживать римских пап, имея, разумеется, при этом в виду собственный интерес как в соперничестве с Византией, так и в рано проявившихся экспансионистских устремлениях, в частности, по отношению к Центральной Европе и Подунавью, где более всего и было распространено арианство.
Помимо арианских общин в Западной Европе вообще и в Подунавье в частности, значительным влиянием пользовались ирландские миссионеры. Христианство в Британии и Ирландии начало распространяться сравнительно поздно, примерно в III веке. Но в ходе варварских завоеваний на континенте во многих районах христианство было оттеснено язычеством, тогда как острова, прежде всего Ирландия, оставались недосягаемыми для внешних военных вторжений. Поэтому за Ирландией даже закрепилось название «священного острова».
История раннего ирландско-британского христианства изучена слабо, как вообще мало изученным остается кельтское влияние на культуру средневековой Европы. Но некоторые факты в научный оборот введены, и их в данном случае может оказаться достаточно. Судьбы Британии и Ирландии несколько разошлись из-за внешнего вмешательства: англосаксы вместе с другими выходцами из районов, прилегающих к Северному и отчасти Балтийскому морям, в V веке захватили юго-восточную часть Британии. В результате значительная часть бриттов переселилась в Арморику, где возникло особое кельтское государство Бретань. Другая часть бриттов была оттеснена на западные полуострова (Уэльс и Корнуэлл). Англосаксы были язычниками, бритты – христианами. Антагонизм их принимает и религиозный характер, причем бритты отказываются даже от попыток обращения своих врагов в новую веру. И если все-таки среди англосаксов появляются последователи британской церкви, то заслуга в этом скорее ирландских миссионеров, нежели собственно бриттских. Именно антагонизм бриттов и англосаксов позволил позднее Риму распространить свое влияние на последних. Но те же самые причины побуждали бриттов держаться своих традиционных верований.
Ирландия находилась в гораздо лучшем положении. Этот остров вообще никем не завоевывался в начале нашей эры. Он избежал римской оккупации, сюда не дошли ни франки, ни англосаксы. В свою очередь, остров оказывался прибежищем для гонимых на континенте еретиков, в особенности еретиков, державшихся ранних христианских установлений.
В VI веке, когда на континенте народы в основном устраивались уже на новых местах после переселений, ирландская церковь была на подъеме, и на континент хлынули десятки тысяч миссионеров с проповедью слова божьего. Рим явно не выдерживал конкуренции с ними даже у себя дома, и это ожесточало папский двор против заморских просветителей. Ирландцев обвиняют во всевозможных ересях, прежде всего в пелагианстве и иудаизме.
Ирландец Пелагий был современником Августина (он умер в 418 году) и его наиболее решительным оппонентом. Августин, как было сказано, стремился поставить мирян в полную зависимость от духовенства, без которого простой смертный вообще не имел возможности общаться с богом. Пелагий же настаивал на том, что каждый человек имеет свободу воли и только от него самого зависит возможность «спасения». Совершая добрые дела, следуя божественным заповедям, он может получить желаемое без какого-либо вмешательства со стороны церковной иерархии. Это был вызов складывающейся церковной иерархии, и на III соборе в Эфесе в 431 году пелагианство было осуждено как ересь.
Обвинение в пелагианстве имело под собой основания. Пелагий, в сущности, и выразил обычную практику ирландско-британских христиан, по крайней мере, понимание этой практики монахами и епископами. Да и сам Пелагий в 415 году был оправдан собором, не признавшим правомерность обвинений Августина. Но последователи его, в числе которых особой активностью отличался римский патриций Целестий, делали из посылок Пелагия выводы, расходившиеся со всей церковной практикой.
Трудно сказать, как в Ирландии и Британии отнеслись к решениям Эфесского собора: на первых соборах эта церковь вообще была представлена единицами, а сами соборные решения хотя и не отвергались, но решительное предпочтение оказывалось Священному Писанию, которое оставалось непререкаемым авторитетом в тех случаях, когда можно было предполагать расхождение между Писанием и решениями соборов. Во всяком случае, на практике ирландско-британской церкви решения собора никак не сказались. Когда сталкиваются различные интересы, враждующие стороны ищут формальный предлог для подчеркивания расхождений. Главной причиной расхождений в данном случае являлись притязания римских пап на верховное правление, на фактическое господство над всеми местными церквами. Ирландская церковь не могла принять этих притязаний уже в силу специфики своего устройства, да и понимания сущности христианства.
У всех народов христианство, так или иначе, впитывает местные языческие традиции, которые как бы и создают специфические черты любой этнической общности. Кельты в Европе издревле отличались особенной наклонностью к мистике, и вообще по сравнению, скажем, с германцами большую роль отводили верованиям и обрядам, а жрецы у них обычно почитались выше королей. И в христианстве у кельтов также сильно выражено мистическое направление. Многие черты раннего ирландско-британского христианства заимствованы с Востока: из Малой Азии, Сирии, Египта. Ирландские паломники постоянно совершали путешествия на Восток, в частности, в Иерусалим и Александрию, на Восток обычно обращали они взор во время молитв. Этому своеобразному культу Востока могли способствовать и предания, отраженные в ряде саг, о выходе самого народа Ирландии из «Скифии» и длительном пребывании во время переселения в Египте. Именно из Египта на Британские острова был занесен институт монашества.
Нужно, однако, отметить, что мистика и у язычников-кельтов, и у христиан отличалась от восточной. На Востоке мистика обычно носила мрачный характер. И христианское монашество, зарождающееся здесь, проникается исступленным аскетизмом. Монахи каждый индивидуально ищут мистического слияния с Богом, во имя чего не предполагаются даже никакие действия, а лишь аскетизм и созерцание. Кельты исстари отличались веселым, общительным нравом (именно кельтское начало заложено в так называемом «галльском духе» французов). Монастыри у них были общежитийными, а «чистота сердца», необходимая для «спасения», должна была проявляться, прежде всего, в самоотверженном стремлении помогать людям, в ограничении себя ради других. Таков, по крайней мере, был идеал, и этому идеалу реально следовали многие тысячи миссионеров.
Монастыри были центрами религиозной жизни в Ирландии, кельтской Британии и Шотландии – дочерней области ирландской церкви. В ирландско-британской церкви вообще была иная субординация церковных должностей. Пресвитер-аббат – настоятель монастыря – стоял в ней выше епископа. Епископа мог посвятить один епископ или же настоятель монастыря. Имущество в монастырях считалось общим и общими же были трапезы. Поскольку многие монастыри насчитывали по нескольку тысяч человек, делались обычно несколько трапез, вмещавших до 300 «мужей божьих» (так, видимо, переводилось с кельтского название ирландско-британских монахов «кульдеи»). Все монахи должны были трудиться, и им в обязанность вменялось помогать окрестному населению, живущим по соседству крестьянам. Именно это обстоятельство обеспечивало успех миссионерской деятельности кельтских монахов в социальных низах общества.
Ирландские монастыри обычно представляли собой крупные хозяйства с относительно высоким уровнем агротехники. Сказывались не только преимущества крупного хозяйства, но и традиционная культура, унаследованная от язычества. Кельтское язычество знало и использовало письменность, а знания в рамках их верований ценились достаточно высоко. И с переходом в христианство кельты сохраняли тягу к всевозможным знаниям. В раннее Средневековье именно в ирландских монастырях концентрировалась грамотность, изучались языки, переводились книги, в частности, Священное Писание. И повсюду в зоне миссионерской деятельности ирландские монахи внедряли богослужение на родном языке, давая обычно и переводы необходимой богослужебной литературы. Есть сведения, что миссионеры располагали двумястами заранее подготовленными алфавитами, чтобы иметь возможность дать письменность бесписьменным народам.
Само кельтское монашество не было настолько отделено от мирян, как это было в Риме или на Востоке. Кельтские монахи не отличались от мирян одеждой. Вход и выход из монастыря был свободным. Можно было уходить в монастырь на какой-то срок. В монастыре псалмы обычно пели под арфу «ради веселия». Католическое духовенство обвиняло ирландскую церковь в разврате, утверждая, что монахи продолжали жить и в монастырях семьями. Действительно, особой строгости в этом отношении не было, хотя, по-видимому, антагонисты ирландской церкви допускали некоторое преувеличение. Бесспорно то, что белое духовенство у кельтов обычно было семейным, и часто сами церковные должности пресвитеров и епископов передавались по наследству. Не требовалось разрыва семейных отношений и от «учеников». Что касается собственно монахов, то им, видимо, разрешалось брать с собой в монастырь и семью, но с требованием соблюдения разрыва брачных отношений между супругами.
Подчеркнутая ориентация ирландского христианства на Восток часто побуждала западных авторов отождествлять их с греками, и именно так их нередко называют в средневековой литературе. Но, строго говоря, это была ориентация не на Византию, а на раннюю христианскую традицию. При сличении текстов Священного Писания обычно предпочтение отдавалось древнееврейскому и затем греческому языку. Что касается латинского языка – он уже, по существу, не рассматривался как сакральный, священный. Явное предпочтение, оказывавшееся ирландцами Константинополю в VIII–XI веках, вызывалось не столько большей близостью обрядов, сколько политическими соображениями, необходимостью отыскания союзников в обострившейся борьбе против далеко идущих притязаний Рима.
Обвинения в иудаизме связывались с определением даты празднования Пасхи. В христианстве, как было сказано, в конечном счете, победила тенденция к размежеванию с иудеями, Пасха у которых приходилась на 14 Нисана – первого месяца лунного календаря. Христиане согласились с тем, что празднование Пасхи обязательно должно приходиться на воскресенье, и во избежание совпадения с иудейской датой предусматривали время либо с 15-го по 21-е число Нисана, либо (в Риме) с 16-го по 22 число. Ирландцы же сохраняли исходную дату «14» и, следовательно, праздновали Пасху в 14–20-х числах.
Спор о числах занял несколько столетий, причем принял ожесточенный характер, а также вызвал определенные расхождения и среди приверженцев ирландско-британской церкви. Кульдеям вовсе не хотелось в чем-либо походить на иудеев. И если многие из них все-таки упорствовали, то по определенным идейным соображениям. Обоснование этих соображений дал один из крупнейших теоретиков ирландской церкви Колумба (VI в.).
Исходя из того, что день страданий и смерти Христа приходится на день равноденствия 21 марта, Колумба заключал, что Пасха должна праздноваться раньше. К тому же – и этот аргумент показателен – луна 21-го и 22-го числа восходит после полуночи, в результате чего тьма превосходит свет. А это непристойно для торжественного празднования Светлого Христова Воскресения.
В спорах Рима и Константинополя ирландская церковь стояла ближе к последнему. В ней, как и в православии, считалось правомерным причастие мирян под двумя видами – хлебом и вином (в католичестве вино предназначается только для духовенства). Как и Византия, кульдейская церковь не знала чистилища. Позднее в споре о «филиокве» (об этом будет сказано ниже) ирландцы также будут на стороне Константинополя. Церковную же иерархию кульдейская церковь не принимала в обоих вариантах. Между тем, по мере отдаления власти от народа и кельтские короли тяготеют к такой организации, которая помогала бы поддержанию господства над массой. Подобные обстоятельства всюду приводят к оттеснению тех течений в христианстве, которые ориентировались на общину и общинное равенство.
Ирландские миссионеры в VI–VIII веках охватывали всю Западную и Центральную Европу. Они привнесли христианство к жившим на побережье Северного моря фризам и саксам, велика была их роль в утверждении христианства у южногерманских племен алеманов и баваров. Сент-Галленский монастырь в Швейцарии у самых границ Италии останется форпостом кульдейского влияния вплоть до X века. Франкские короли из династии Меровингов (до середины VIII века) относились к ирландцам вполне терпимо, хотя неизменно помогали Риму в борьбе с арианством. Но и здесь отдаление королевской власти от народа неотвратимо вело к столкновению с общинами, осуждавшими неравенство. При династии Каролингов гонения на них резко усилятся, и ирландские монастыри один за другим переводятся на римский (обычно бенедектинский) устав.
Проникали ирландцы и в славянские земли, как к балтийским славянам, так и к дунайским. По мере вытеснения их из стран германо-романского мира, они стремились опереться на славянские общины. Общинный же характер христианства способствовал прорастанию всевозможных ересей, причудливых соединений язычества и христианства вроде отмеченных выше на могильниках Руси и Моравии.
В этой ситуации паннонские и моравские славянские князья обратились в Константинополь к императору Михаилу и патриарху Фотию с просьбой прислать «учителей». За обращением в Константинополь, естественно, стояли и дипломатические расчеты. Борьба же разных религиозных общин княжескую власть до известных пределов обычно устраивает: тогда князь получает возможность выступать в этих спорах арбитром.
| |
Документ без названия
Странное стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...» (далее СГ) дошло до нас в двух вариантах (далее СГ-1830 и СГ-1835). Первый, более длинный, был написан в 1830 году в Болдине, остался незаконченным и при жизни Пушкина не публиковался:
Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
Лукавый Запад омрачил -
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
Там веры чистый луч потух:
Там жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоше позорной,
Не черплем чашей непокорной
Постимся мы: струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой неистовой и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Мы к женам, как орлы, ревнивы,
Харемы наши молчаливы,
Непроницаемы стоят.
Алла велик!
К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар -
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;
Треща в объятиях пожаров,
Валились домы янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях скорчась мертвецы
Оцепенелые чернели.
Алла велик. - Тогда султан
Был духом гнева обуян (III, 247-248).
В последней части текста речь идет о самом драматичном событии в новейшей истории Турции - подавлении султаном Махмудом II восстания янычаров в июне 1826 года и последующем полном уничтожении их могущественного войска. Как вспоминал русский посол в Стамбуле граф Рибопьер, казармы, где укрылись бунтовщики, «атаковали, и их там уничтожили: очень многих убили, некоторые разбежались по разным областям империи, где запрещено было даже называть их по имени». Сочувствующий янычарам нарратор - арзрумский «фундаменталист» - вспоминает об этой расправе и начинает рассказ об одном из беглых янычаров, укрывшемся в Арзруме. Поскольку у нас нет никаких данных о том, как Пушкин собирался развивать этот сюжет, приходится признать, что о замысле, общей идее и жанре СГ-1830 мы не в состоянии сказать ничего определенного.
В 1835 году Пушкин вернулся к незаконченному тексту, переменил в нем несколько стихов, отрезал последнюю часть и вставил его в пятую главу «Путешествия в Арзрум» с мистифицирующим предуведомлением:
Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.
Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут - и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый жар потух.
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят:
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны
И смирно жены там сидят (VIII, 478-479).
В.А. Жуковский напечатал СГ-1830 в девятом томе «Сочинений Александра Пушкина» под названием «Начало поэмы», данным стихотворению, вероятно, по фразе из «Путешествия в Арзрум»: «Вот начало сатирической поэмы…» Сразу же после СГ-1830 помещен черновой незаконченный набросок «Кромешник» («Какая ночь! мороз трескучий...», 1827), где описана московская площадь после казни в годы опричнины. По-видимому, Жуковский хотел обратить внимание читателей на сходство четырех стихов в соседствующих текстах:
Вариант, напечатанный Жуковским, имел некоторые отличия от дошедшего до нас автографа (по которому СГ-1830 с конца XIX века печатается в собраниях сочинений Пушкина), что, по мнению П. Анненкова, доказывало «существование другого, чистого оригинала, не находящегося в бумагах поэта». Сам Анненков в «Сочинениях Пушкина» дал контаминированную редакцию СГ-1830 без названия. «Это совсем не Начало поэмы, - писал он в примечании, - а... стихотворение, порожденное случаем, и при том это черновой оригинал той самой пьесы, которую Пушкин в 1836 году поместил в своем путешествии в Арзрум, приписав ее там выдуманному лицу - Янычару Амин-Оглу. <...> по энергии стиха и выражения, этот первый очерк чуть ли не выше последующей переделки, и конечно мрачная картина, представляемая окончательной строфой, никак не заслуживала исключения, какому подверг ее Пушкин».
В довольно обширной литературе о СГ нередко повторяются одни и те же ошибки. Исследователи, как правило, не делают различий между двумя версиями стихотворения, относя мистифицирующее предуведомление из «Путешествия в Арзрум» к СГ-1830, а аллюзии на расправу над янычарами - к СГ-1835. Между тем отсутствие упоминаний о ликвидации янычаров и введение маски автора в СГ-1835 меняет временную перспективу повествования. Если безымянный нарратор СГ-1830 выступает со своими обличениями столичных нравов после событий 1826 года (ср.: «Тогда нас буря долу гнула»; «Тогда султан / Был духом гнева обуян»), то для СГ-1835 подобная временная локализация оказывается невозможной. Приписывая «начало сатирической поэмы» янычару Амин-Оглу (единственное в «Путешествии в Арзрум» употребление слова, которое, как мы помним, было в 1826 году запрещено султаном), Пушкин относит его обличительный монолог к неопределенному прошлому, когда янычары еще благоденствовали и открыто выражали недовольство модернизационными нововведениями султана и его сближением с «гяурами».
Кроме того, об СГ-1830 без всяких на то оснований часто говорят как о законченном тексте. Еще Н. Черняев в конце XIX века утверждал, что «трудно себе представить что-либо законченнее», чем это стихотворение. Как ни странно, его точку зрения разделяют и некоторые современные ученые, не обращающие внимания на очевидный обрыв только начатого рассказа о беглом янычаре, который явно требует продолжения. Даже В.А. Кошелев, исходящий из верной посылки о принципиальных различиях между СГ-1830 и СГ-1835, полагает, что оба варианта суть «вполне законченные произведения» (курсив автора. - А.Д.).
Текстологически обосновать тезис о завершенности СГ-1830 попытался американский ученый У. Викери, но его аргументация основана на недоразумении. Он считает, что беловой автограф стихотворения заканчивается многоточием (подобно таким произведениям Болдинского периода, как «Герой» или «Для берегов отчизны дальней...»), и, следовательно, речь может идти о недосказанности, которая отнюдь «не равняется незавершенности». На самом же деле рукопись заканчивается не точками, а тремя звездочками (de visu) - то есть знаком разделения строф, указывающим, что Пушкин предполагал продолжить текст по крайней мере еще одной частью.
Критика XIX века видела в СГ-1830 пример пушкинского протеизма, его способности перевоплощаться в людей других времен, народов и конфессий, - замечательный ориенталистский пастиш, стоящий в одном ряду с «Подражаниями Корану». Еще Белинский отметил, что стихотворение «как будто написано турком нашего времени». Эту мысль развил Н. Черняев:
Каждый стих этого превосходного стихотворения проникнут чисто турецким религиозно-национальным фанатизмом, чисто турецкой гордостью, самоуверенностью, воинственностью, чувственностью и апатией... как бесподобно передал поэт все самые сокровенные помыслы завзятого турка, нетронутого европейской цивилизацией.
В советское время СГ-1830 начали читать как политическую аллегорию с несколькими замаскированными русскими проекциями. Первым подобное прочтение предложил Д. Благой в своей ранней книге «Социология творчества Пушкина». Его внимание привлекла хитрая фраза из «Путешествия в Арзрум»: «Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою». Поскольку никакого соперничества между Москвой и Казанью русская культура со времен Ивана Грозного не знала, Благой справедливо усмотрел здесь намек на действительно важную для Пушкина (и всей русской культуры) антитезу «Москва - Петербург», а в стихотворении - завуалированное рассуждение о конфликте «между двумя русскими городами - "главным городом" старой "Азиатской России" - гнездом "закоренелой старины", "упрямого сопротивления" нововведениям Петра I- и новой приморской столицей, явившейся опорой этих нововведений». Оно напомнило исследователю как «Мою родословную», тоже написанную в Болдинскую осень, с ее темой противостояния древней русской аристократии реформам Петра, так и пассаж в «Путешествии из Москвы в Петербург», где соперничество между Москвой и Петербургом отнесено к прошлому.
Проекция турецких реалий на русскую историю, полагает Благой, объясняется тем, что султан-реформатор Махмуд II, пытавшийся провести в Турции вестернизационные реформы, составлял прямую параллель Петру I, а недовольные модернизацией янычары - поднявшим бунт стрельцам и, шире, «древней русской аристокрации», с которой боролся как Петр, так и - задолго до него - Иван Грозный. На то, что Пушкин имел в виду не только Петра, но и Ивана Васильевича, по мнению Благого, указывало отмеченное выше совпадение четырех стихов СГ-1830 с «Кромешником», в чем критик увидел автоцитату, отсылающую к соответствующей эпохе в истории России, хотя на самом деле мы имеем дело с типичной для Пушкина поэтической «экономией» (в том смысле, который вкладывал в это понятие Ходасевич).
В то же время, как полагал Благой, «в самом Пушкине турецкий бунт должен был оживлять другие, более близкие воспоминания. Бунт янычар произошел ровно через полгода после восстания декабристов - в ночь с 14 на 15 июня 1826 года. Мало того, самый ход этого бунта до поразительного напоминает выступление декабристов на Сенатской площади. <...> Уцелевший в разгроме декабризма поэт-Арион не зря влагает их [стихи] в уста "гонимого янычара", уцелевшего в страшной катастрофе...»
Впоследствии Благой более осторожно писал лишь о том, что в сознании Пушкина, возможно, возникали аналогии между восстанием янычар и стрелецким бунтом против Петра. Другие предложенные им параллели, однако, были в 1980-е годы реанимированы в либеральном духе М.И. Гиллельсоном и Н.Я. Эйдельманом.
У. Викери, посвятивший СГ-1830 три статьи, принял все четыре русские параллели, замеченные советскими исследователями (подавление стрелецкого бунта, расправа Ивана Грозного с боярами, восстание декабристов и упадок древних боярских родов), но пришел к выводу, что они «не продвигают наше понимание пушкинской эстетики». Главным в стихотворении он считал трагическую иронию, с которой Пушкин представляет исламский фатализм.
Новые, неопочвеннические интерпретации СГ были предложены в 1990-е годы В.А. Кошелевым и В.С. Листовым. Согласно В.А. Кошелеву, стихотворение имеет «предельно четкую» идею: «нарушение естественной жизни какого- либо социума (в данном случае Турции, верной "правде древнего Востока") приводит к кровавым потрясениям, за которыми не следует ничего хорошего: именно "западническая" политика Махмуда II и привела в конечном счете к русско-турецкой войне, начавшейся через два года после разгрома янычар и проигранной Махмудом...»
Интерпретация В.С. Листова опирается не столько на текст, сколько на не вполне разборчивую помету, сделанную Пушкиным над беловым автографом СГ-1830: «17 окт. 1830 Предч. разб. ст.» (III, 875, 1219). Обратив внимание на то, что 17 октября по церковному календарю - это день памяти библейского пророка Осии, Листов нашел в стихотворении некоторые отдаленные тематические переклички с обличениями и пророчествами «Книги Осии», в которой предсказывается гибель Самарии, восставшей против Бога. Тем самым, считает он, СГ-1830 приобретает черты профетического текста, предрекающего богооставленному Стамбулу, за которым угадывается богооставленный Петербург, печальную судьбу древнего города грешников и вероотступников.
Никто из писавших об СГ-1830 и СГ-1835 не задался вопросом о возможных источниках стихотворения, из которых Пушкин мог почерпнуть сведения о состоянии дел и умонастроениях в современной ему Турции. Единственное исключение составляет специальная работа Д.И. Белкина, указавшего несколько статей о Турецкой империи (в основном переводных) в русских журналах 1826-1830-х годов, которые могли быть известны Пушкину, хотя никаких прямых мотивных параллелей к тексту он в этих статьях не обнаружил. Вне поля зрения исследователя остались многочисленные книги о Турции западных путешественников и дипломатов - тех самых «гяуров», которые, по пушкинскому исламисту, «славили Стамбул» и замышляли его погубить. В каталоге библиотеки Пушкина значатся три такие книги, причем все они вышли в свет до 1830 года. Это «Путешествия на Восток» француза Виктора Фонтанье (с более поздней книгой которого Пушкин, как известно, полемизировал в предисловии к «Путешествию в Арзрум»); франкоязычные «Очерки турецких нравов XIX столетия» стамбульского грека Григория Палеолога, написанные в форме диалогов или драматических сценок; и русский перевод «Путешествия по Турции» ирландского священника Роберта Уолша, капеллана британского посольства в Стамбуле. Кроме того, в пушкинской библиотеке была злая русофобская книжка Шарля Нийон-Жильбера (французского эмигранта-бонапартиста, прожившего восемь лет в Петербурге), в которой большая глава посвящена сравнению двух империй - Российской и Османской (не в пользу первой). Можно предположить также, что Пушкин должен был знать по крайней мере еще две книги о Турции, весьма популярные как в Европе, так и в России: упомянутые выше «Два года в Константинополе и Морее» француза Шарля Деваля, тут же переведенные на русский язык, и записки англичанина Чарльза Макфарлейна, доступные и во французском переводе.
При просмотре западной и русской литературы 1820-1830-х годов о Турции сразу выясняется, что параллель между Махмудом II и Петром Великим, о которой говорил Благой, была тогда общим местом. Это «нелепое сравнение... теперь в большой моде почти у всех писателей», - сетовал в обзоре западной ориенталистики О.И. Сенковский со свойственным ему скепсисом по отношению к общепринятому. Уже в 1826 году, то есть сразу после разгрома янычаров, знаменитый аббат де Прадт обсуждал вопрос о том, сможет ли Махмуд стать турецким Петром и провести модернизационные реформы. Если верить Н.Н. Муравьеву-Карсскому - посланнику русского правительства в Турции и Египте во время турецко-египетского конфликта 1832-1833 годов, неоднократно встречавшемуся с султаном, - сам Махмуд, «ослепляясь названьем преобразователя, охотно сравнивает себя с Петром I и даже доныне уверен, что шествует по стезям сего великого государя». «Султан Махмуд, - говорил Муравьеву Николай I, - корчит Петра Великого, да неудачно...»
Современники обращали внимание прежде всего на то, что в обеих империях проведению реформ сопутствовало жестокое подавление восставших против монарха «преторианцев» - соответственно стрельцов и янычаров. «Нынешний султан, - писал Роберт Уолш, - во многих отношениях похож на Петра Великого: та же решимость в начинаниях, та же энергия в осуществлении задуманного, та же неумолимая безжалостность в достижении любой цели. Подобно Петру Великому, Махмуд не мог более терпеть господствующее положение своей преторианской гвардии и решился избавиться от янычаров так же, как Петр избавился от стрельцов». Аналогичные сравнения есть у Фонтанье, у Деваля и у ряда других, менее известных путешественников.
Ужасаясь варварской жестокости, с которой Махмуд изничтожил янычаров, некоторые авторы склонны были оправдывать его действия политической необходимостью. Так, например, граф Рибопьер свидетельствовал: «Султан Махмуд, которого в Европе считают злым и кровожадным тираном, был в сущности добрейший человек. <... > Беспрестанные мятежи, убийства, которых он был свидетелем, <...> убедили его в том, что дикий разгул янычар несовместим с его собственной властью и независимостью. <... > Султану предстоял выбор между собственною погибелью и уничтожением неукротимого войска. Он не задумался и хорошо сделал. Это был первый шаг по той стезе реформ и образований, по коей мечтал идти Махмуд, следуя примеру Петра Великого, которого осмелился взять себе в образец. Это-то строгое, но необходимое решение распространило по Европе славу свирепости, которой Махмуд собственно вовсе не заслуживал». Расправа над янычарами вызывает ужас, писал Фонтанье, но поскольку янычары препятствовали прогрессу и просвещению, о них не стоит жалеть. Аналогичную мысль высказывал и Нийон-Жильбер, предлагавший критикам Махмуда вспомнить о жестокости Петра I, которого вся Европа признает великим государем. «Разве московский монарх уступал в жестокости султану? - спрашивал он. - Последний лишь отдавал приказы о казнях, тогда как Петр унизил царское достоинство, играя роль одновременно судьи и палача. Он соревновался со своими приближенными в том, кто отрубит больше голов виноватым. Если столь ужасная резня может иметь положительные последствия, то нужно пожелать туркам, чтобы кровь янычаров скрепила фундамент их цивилизации прочнее, чем кровь стрельцов, скрепившая возрождение России».
Как известно, реформы Махмуда II, пытавшегося, по слову современника, «привить просвещение к утлому пню Исламизма», затронули многие стороны турецкой жизни: не только армию и флот, где прежде всего были введены новые порядки на западный манер, но и государственное управление, финансы, образование, медицину, культуру, быт. Западные путешественники и дипломаты («гяуры») в основном приветствовали нововведения Махмуда («славили Стамбул»), хотя видели их непоследовательность и ограниченный характер. Уолш, например, отмечает, что Махмуд привил оспу своим детям «и показал чрез то, что намерен заимствовать от европейцев и другие улучшения, кроме тех, которые собственно относятся к военному искусству». Макфарлейн, посетивший Стамбул во время русско-турецкой войны, пишет, что модернизация пока еще находится в самой начальной стадии, но это дает надежды на скорые изменения к лучшему в военной подготовке, управлении и нравах. Среди многочисленных (хотя, по его мнению, неглубоких) улучшений он отмечает большую толерантность по отношению к иностранцам-христианам, привлечение военных советников из Западной Европы, распространение европейской музыки и европейской одежды, более свободное поведение женщин в общественных местах Стамбула.
То, что просвещенному европейцу кажется сдвигом в лучшую сторону, признаком прогресса и обновления, с точки зрения фундаменталистского сознания есть преступное вероотступничество и повреждение нравов. Народное недовольство реформами султана Махмуда II, особенно в провинциях азиатской Турции, - этом «палладиуме Исламизма», по определению Ф. Булгарина, - многократно отмечалось в известной Пушкину литературе. Макфарлейн свидетельствует, что число турок, недовольных нововведениями, в 1828-1829 годах было еще очень велико. Исламисты распространяли разные слухи о прегрешениях Махмуда и, в частности, о том, что он «пьет вино, часто неумеренно». Виктор Фонтанье приводит монолог хозяина провинциальной кофейни, который так объясняет ему положение в стране: «Султан Махмуд, наш повелитель, больше не хочет янычаров. <...> Султан Махмуд стал неверным; он перенял от неверных их обычаи и занятия; говорят, что он учредил карантины, как будто судьба уже более ничего не значит!»
Характерное для фанатичных мусульман-староверов неприятие нового, соединенное с ксенофобией, хорошо изображено в драматических сценах Григория Палеолога. В самой первой из них появляется некий имам, который, подобно пушкинскому нарратору, предвещает Турции страшную катастрофу. «Ныне мы игрушки в руках неверных; они делают с нами все, что им угодно, - пугает он своих собеседников. - <...> Каждый день нам отменяют несколько наших древних обычаев, несколько наших законов, освященных многими веками и утвердившихся благодаря множеству наших побед. Не знаю для чего, но нам мало по малу навязывают отвратительные привычки чужих стран. Все переменилось, все изменяется в нашей империи. <...> Разложение проникло и в народ. Все правила, все заповеди великого Пророка растоптаны. В наши дни приходится видеть, что правоверные не брезгуют азартными играми. Люди не только пренебрегают молитвой, а нередко и постом - они перестали воздерживаться от спиртного, что строго-настрого запрещено Магометом. Наконец, поверите ли вы, я видел, как мусульмане едят свинину!»
Другие персонажи у Палеолога жалуются на неприличное поведение турчанок, кокетничающих с иностранцами, а сами турчанки рассказывают друг другу истории о том, как им удается проводить в гарем любовников под носом у нерадивых евнухов.
Бывшим янычарам, пострадавшим от султана и негодующим по поводу перемен, Палеолог посвящает отдельную сцену. Текущие события в ней обсуждают Ибрагим, который сохранил себе жизнь, записавшись в новое, устроенное на европейский лад войско Махмуда, его товарищ Гасан, скрывающийся от палачей и надеющийся с помощью братьев из провинции «перевернуть все вверх дном», и сочувствующие янычарам мулла Сали-Эффенди и ремесленник Осман. Ибрагим рассказывает товарищам об унижениях, которым он подвергается в новом войске: солдат заставляют носить «обезьянский наряд» и муштруют на «обезьянский манер»; ими командует «собака из немцев»; их кормят свиным салом и позволяют пить вино; им даже «хотели совсем обрить головы на манер франков». Слушатели возмущаются переменами, бранят чужеземцев, оплакивают гибель Исламизма. «Великий Пророк! - восклицает мулла, - чем же мы заслужили такую тяжкую кару? Когда утолится твой гнев, видя народ твой игралищем неверных и безбожных?» Гасан обвиняет во всем султана Махмуда: «Он с ума сошел. До чего же думает нас довести этот неверный... Он истребляет старинные наши обычаи, портит нравы, отнимает у нас наши привилегии, а мы будем его щадить! <...> Не первый ли он нарушил Куранни-шериф (Св. Алкоран): этот Падишах позволяет пить вино и есть свинину?»
Нетрудно заметить, что пушкинский турок обвиняет «Стамбул» в тех же самых губительных пороках (капитуляция перед «гяурами», ослабление веры, отречение от заветов Магомета, несоблюдение религиозных ритуалов, постов и запретов, эмансипация женщин, пьянство и разврат), которые вызывают гнев у персонажей драматических сценок Палеолога, представленных с откровенной иронией. Поэтому нельзя согласиться с теми исследователями, которые считают, что позиция автора в СГ совпадает с позицией нарратора и что Пушкин - как полагает, например, В. Кошелев - устами арзрумского мусульманина осуждает отступления от национально-религиозной традиции.
Ведь в этом случае нам пришлось бы признать, что в турецком контексте стихотворение направлено против европеизации и модернизации, а при проекции на контекст русский - обретает антипросветительский, антизападнический, антипетровский, антипетербургский характер. На самом деле, как я думаю, дело обстоит иначе: Пушкин не солидаризируется с точкой зрения «Арзрума» (или, если угодно, «Москвы»), а дискредитирует ее, выставляя на посмешище. Жанровая дефиниция «сатирическая», которая в «Путешествии в Арзрум» дана поэме вымышленного янычара, имеет, как кажется, двойной смысл. Если для Амин-Оглу объектом сатиры являются стамбульские нововведения, которые в Арзрум еще не проникли, то для самого Пушкина это мракобесные взгляды «арзрумца»-ретрограда, напоминающие «мрачное упрямое супротивление суеверия и предрассудков», на которое, по Пушкину, Петр I наталкивался во враждебной ему Москве.
Ближайшую параллель к стихотворению в творчестве Пушкина в таком случае представляет четвертая глава «Арапа Петра Великого», где боярин Гаврила Афанасьевич Ржевский, его родственники и гости возмущаются новыми петровскими обычаями и воздают «похвалы старине». Жалобы русских традиционалистов начала XVIII века мало чем отличаются от жалоб традиционалистов турецких столетие спустя: они тоже испытывают «отвращение от всего заморского», сетуют на «нынешние наряды», осуждают неприличное поведение молодых женщин, которые «позабыли слово апостольское» и «до ночи пляшут и разговаривают с молодыми мужчинами», приходят в ужас от пьянства («...того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого насмех пьяным напоят»).
В историческом романе вальтер-скоттовского типа подобное ворчание «староверов» - постоянный комический прием. Оно должно вызывать смех, потому что модельный читатель исторического романа, в отличие от его персонажей, отлично знает, «чем дело кончится», - знает, что старые костюмы и строгие нравы, по которым тоскуют «староверы», обречены безвозвратно уйти в прошлое.
На такой же эффект рассчитано и СГ в обоих вариантах, поскольку идеальный читатель стихотворения знал результаты русско-турецкой войны 1828-1829 годов и потому не мог не понимать, что представленная Пушкиным точка зрения арзрумца-исламиста была полностью опровергнута ходом исторических событий.
Во-первых, «гяуры» (то есть русские) захватили отнюдь не развратный Стамбул, а благочестивый Арзрум, сдавшийся почти без сопротивления. Достаточно сравнить концовку СГ-1835, прославляющую недоступность арзрумских гаремов и неподкупность их евнухов, со следующей за стихами фразой из «Путешествия в Арзрум»: «Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился гарем» и с рассказом Пушкина о том, как он побывал в брошенном гареме арзрумского паши и даже видел неприкрытые лица его обитательниц, чтобы пушкинская скрытая ирония стала ощутимой.
Во-вторых, арзрумские янычары оказались вовсе не «бестрепетными джигитами», смело летящими в бой, а трусами и предателями. 19 июня (1 июля) 1829 года, когда Пушкин уже был в действующей армии, в плен к русским попал Мамиш-Ага, в прошлом командир янычаров. Он согласился стать парламентером Паскевича и отправился в Арзрум, где стал уговаривать (и уговорил) военачальников сдать город. Хотя этот эпизод не упомянут в «Путешествии в Арзрум», он был довольно хорошо известен, так как о нем сообщалось в официальной реляции Паскевича (копии этих реляций, кстати, хранились у Пушкина) и в книге Булгарина «Картина войны России с Турциею». На Западе вообще считали, что именно бывшие янычары предали султана и сдали Арзрум врагу. Так, в одной из статей, помещенных в «Revue des deux mondes», говорилось: «Измена проникла в ряды его армии. Юсуф-паша продал Варну; старые янычары отдали Арзрум и открыли ворота Адрианополя». Видный английский дипломат Эдвард Лоу, впоследствии генерал- губернатор Индии, 29 августа 1829 года записал в своем дневнике: «Читал письмо мистера Картрайта, консула в Константинополе, от 9-го числа. В потере Арзрума повинны янычары». Еще через день он передавал содержание депеши посла Великобритании в Константинополе Гордона: «Турецкая империя распадается. Патриотический энтузиазм и религиозное чувство, как кажется, угасли. Султан непопулярен. <...> Падение Арзрума объясняется предательством янычаров».
Наконец, поражение в войне с Россией не только побудило султана Махмуда продолжать и углублять реформы, но и, как ни странно, способствовало русско-турецкому сближению в начале 1830-х годов. «Нынешние перемены в Турции, - отмечал Сенковский в 1835 году, - не могли бы быть выполнены, если б она не опиралась на великодушную помощь Севера».
Пушкинскую иронию усиливает обыгрывание в стихотворении мотива сна, который арзрумский фундаменталист связывает со Стамбулом и его сближением с Западом: «Как змия спящего раздавят. Стамбул заснул перед бедой»; «И спит подкупленный евнух». Арзрум, напротив, бодрствует: «Не спим мы в роскоши позорной...» Оппозиция инвертирует общепринятые на Западе и в России представления о мусульманском Востоке как бездеятельной, неизменяющейся, «спящей» культуре, противопоставляемой активному, находящемуся в постоянном развитии Западу. Эта топика хорошо нам знакома по характеристике Востока в «Споре» Лермонтова: «Род людской там спит глубоко / Уж девятый век. <...> Все, что здесь доступно оку, / Спит, покой ценя...», но еще задолго до него она получила широкое распространение в публицистике. Так, Уолш писал, что сначала ему казалось, что Турция - это «спящий лев, который еще может проснуться и одним ударом уничтожить всех своих врагов». Однако затем, познакомившись с печальным состоянием империи, он пришел к выводу, что «Турция никуда не движется, тогда как все соседние народы быстро прогрессируют в искусствах и гражданской жизни, что она отличается от своих древних азиатских предков только иссяканием яростной энергии, и что ее следует сравнить не со спящим, а с умирающим львом, который после нескольких конвульсий уже больше никогда не проснется». Схожую мысль развивала анонимная статья в «Телескопе», представлявшая собой компиляцию двух английских журнальных обзоров с довольно большими авторскими вставками. «Тогда как Европа, увлекаемая потоком деятельности, кипит жизнию, Мусульманин спокойно дремлет, предаваясь воле Пророка, - писал автор. - Века укрепили его в сей летаргической бесчувственности. Он остается погруженным в ней. Все соседние народы перегоняют его; и скоро волны их, беспрестанно приливающие и накипающие, восшумят над главой его и кончат тем, что совершенно его захлещут и поглотят». Сама русско-турецкая война могла восприниматься - процитируем «Письма из Болгарии» ее участника, поэта Виктора Теплякова, - как «великолепное зрелище, на коем разыгралось одно из действий вековой драмы: - борьба недвижного Юго-Востока с бодрым, наступательным Северо-Западом...»
У нас нет никаких оснований считать, что в этой борьбе Пушкин сочувствовал «спящему» Востоку. Хотя он никогда не высказывал никаких соображений по поводу турецкой модернизации, мы знаем, что в 1830-е годы для него, как и для всех его европейских современников, исламизм был несовместим с просвещением и прогрессом, которые, по его мнению, являлись категориями исключительно христианского ареала. В заметках о втором томе «Истории русского народа» Н. Полевого Пушкин писал: «История новейшая есть история христианства. - Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (XI, 127). Уже в незаконченном «Тазите» (1829-1830) намечался сюжет обращения молодого горца-мусульманина в христианство. По пушкинскому плану, одним из персонажей поэмы должен был стать монах или священник-миссионер (V, кн. II, 336). Именно христианские миссионеры, писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум», лучше всего могли бы способствовать смягчению нравов воинственных мусульман-черкесов и приобщению их к европейской цивилизации: «Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание евангелия. <...> Кавказ ожидает христианских миссионеров» (VIII, 449). В том же первом номере «Современника», где было напечатано «Путешествие в Арзрум», Пушкин поместил очерк «Долина Ажитугай» черкеса-мусульманина Султана Казы-Гирея, сочувственно процитировав в кратком послесловии к нему слова автора, назвавшего христианский крест, высеченный на гранитном столбе, «хоругвию Европы и просвещения» («Любопытно видеть, как... Магометанин с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения» (курсив автора. - А.Д.). XII, 25).
Если экстраполировать эти представления Пушкина на ситуацию в Турции, можно предположить, что главным условием успеха турецких реформ он должен был считать деисламизацию и «приобщение к европейской системе» (собственно говоря, то, что совершил в XX веке Ататюрк). Это тем более вероятно, что в России тогда не исключали возможности будущей христианизации Османской империи и подозревали Махмуда в скрытых симпатиях к «хоругви Европы и просвещения». У Николая I были какие-то основания полагать, что султан Махмуд «склонен к принятию, в случае крайности, христианской веры». Об этом он под большим секретом рассказал на аудиенции Н.Н. Муравьеву-Карсскому перед отъездом последнего в Стамбул. «По возвращении моем из Турции, - вспоминает Муравьев, - я заметил, что государь изменил свой образ мыслей на сей счет; обращение султана в христианство казалось ему делом несбыточным и даже недоступным». Он приводит слова императора о Турции: «...хотя обязанность каждого из нас стараться просветить страну сию Христианством, но на время должно отложить эту мысль».
О возможности просветить Турцию христианством задумывался и автор упомянутой выше статьи о Турции в «Телескопе». Выражая некоторый скептицизм относительно попыток Махмуда совместить просвещение с исламом, он предполагал, что в дальнейшем старый религиозный уклад будет полностью разрушен и Османская империя, отказавшись от Корана, возродится «силой просвещения для нового, высшего существования»:
Может быть, Греческий крест, сияющий на башнях Кремля, засверкает на минаретах Царя-Града... И кто знает, не суждено ли древней Византии сделаться новым средоточием цивилизации; не возродится ли к новой жизни Восток, столь долго дремавший в торжественном бездействии Исламизма; не возгордятся ли берега Нила в другой раз своими тысячью городами; не возвратят ли Варварийские пустыни свои триста училищ, кои некогда составляли их славу; не восстанут ли из своего пепла библиотеки Пергама и Александрии; не предназначена ли новая эра славы Финикии, Тиру и Сидону...
Непросвещенная азиатская Турция, как явствует из пятой главы «Путешествия в Арзрум», произвела на Пушкина угнетающее впечатление. Грязь, нищета, грубые нравы - все то, что он назвал «азиатской бедностью» и «азиатским свинством», вызвали у него одно лишь омерзение. Надо полагать, что заблуждения самодовольного арзрумского янычара были ему не менее отвратительны, чем узкие и кривые улицы Арзрума, низкие и темные мечети, памятники и гробницы, в которых «нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли», чем местные жители, показывающие ему язык словно лекарю. Правда, В.А. Кошелев увидел тут бахтинианский диалог двух равноправных точек зрения - «правды древнего Востока», выраженной в стихотворении, и западнических представлений о Востоке, выраженных в прозе (того, что Э. Саид определил бы как колониалистский ориентализм). Однако я думаю, что это лишь обычные издержки метода, который побуждает везде находить диалог, амбивалентность или, того хуже, пресловутую апорию, принимая за них иронию, издевку и все прочие формы вполне монологических словесных заушений и заглушений. СГ-1835 как язвительная сатира хорошо вписывается в западнический дискурс «Путешествия в Арзрум», а он, в свою очередь, столь же хорошо соответствует общей западнической программе «Современника», в первом номере которого Пушкин напечатал «Путешествие» вместе с «Пиром Петра Первого», «Из А. Шенье» и «Скупым рыцарем». Сутью этой программы, как писал Н.В. Измайлов, было русское европейство: журнал призывал «идти путем Петра, отстаивать просвещение, основы которого были им заложены, бороться против всяких попыток остановить развитие просвещения и изолировать Россию от западноевропейской культуры». СГ-1835, замечает при этом исследователь, представлял собой «своеобразное развитие той же темы о борьбе между старым и новым, которая занимала Пушкина в связи с работой о Петре». Если вспомнить, что в то самое время, когда Пушкин работал над «Путешествием в Арзрум» и готовил к печати первый том «Современника», в Москве начала складываться идеология славянофильства и поэтому антитеза «Петербург - Москва» снова стала актуальной, стихотворение, в котором противопоставлялись центры двух соперничающих культур - приморская столица, открытая внешнему миру и переменам, и удаленный от моря провинциальный город, переменам и внешнему миру враждебный, - получало даже не двойное, а тройное дно.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Все цитаты из произведений Пушкина даются по шестнадцатитомному академическому изданию полного собрания его сочинений (1937-1959) с указанием в скобках тома и страницы.
2) Записки графа Александра Ивановича Рибопьера // Русский архив. 1877. Книга II. Тетрадь 5. С. 33.
3) Этот сюжет мог быть подсказан Пушкину двумя книгами о Турции, которые он, по всей вероятности, читал до или сразу после поездки в действующую армию во время турецкой кампании 1829 года (подробнее о них см. ниже). В «Путешествиях на Восток» Виктор Фонтанье писал, что летом 1826 года он находился в Трапезунде, когда туда добрались первые беглецы-янычары из Стамбула, известившие местных жителей об ужасной резне, пожарах и казнях в столице (см.: Fontanier V. Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvemement Frangais, de l"annee 1821 a l"annee 1829. Turquie d"Asie. Paris, 1829. P. 25-26). О гонимом янычаре, просившем помощи и убежища у христиан в предместье Стамбула, рассказывалось в книге английского путешественника Чарльза Макфарлейна (см.: Macfarlane C. Constantinople in 1828, a residence of sixteen months in the Turkish capital and Provinces: with an account of the present state of the naval and military power, and of the resources of the Ottoman Empire. Second edition to which is added an appendix, containing remarks and observations to the autumn of 1829. L., 1829. Vol. II. P. 380-381). Там же, кстати, упомянут брошенный на съедение собакам труп казненного (ср. у Пушкина: «Скликая псов на праздник жирный...»), напомнивший автору эпизод поэмы Байрона «Осада Коринфа» (ч. XVI), где рассказывается о поедании трупов псами. В примечании к этому эпизоду Байрон утверждал, что сам видел подобное под стеной константинопольского сераля: «Тела принадлежали, вероятно, казненным бунтовщикам-янычарам» (Lord Byron. Selected Poems / Ed. with a Preface by Susan J. Wolfson and Peter J. Manning. L.; N.Y., 1996 (Penguin Books). P. 373).
Некоторые исследователи ошибочно полагают, что в последней части СГ-1830 речь идет о подавлении бунта арзрумских янычаров (см., например: Vickery W.N. «Stambul gjaury nynce slavjat» // Alexander Puskin. Symposium II. Columbus, Ohio, 1980. P. 17-19; Кошелев В.А. Пушкин: История и предание. Очерки. СПб., 2000. С. 274). На самом деле, как сообщает В. Фонтанье, в самом Арзруме бунта янычаров не было, так как местному паше удалось хитростью и красноречием убедить янычарский гарнизон подчиниться султану и перейти в его армию (Fontanier V. Voyages en Orient. P. 66-68). Пушкин отталкивался от описаний стамбульской резни, которыми изобиловала литература о Турции. Так, подожженные дома янычаров в Стамбуле упоминались в переводной статье «Взгляд на внутреннее состояние Турецкой Империи (Из British Chronicle)», напечатанной в «Вестнике Европы»: «Султан велел зажечь длинные ряды жилищ янычарских и запретил тушить пламень; развалины их стоят доныне как памятники проклятия и мщения ужасного» (1829. Ч. 166. № 11. С. 239). Особенно яркими подробностями отличалась переведенная на русский язык книга француза Шарля Деваля, очевидца событий. Он рассказал не только о гибели янычаров от огня и картечи во время восстания, но и о последующих репрессиях. Великий Визирь, окруженный палачами, писал он, расположился на дворе одной из мечетей. Всех схваченных янычаров и их сторонников влекли туда и предавали казни: «Сие ужасное убийство продолжалось слишком две недели. ... Более тысячи человек погибало ежедневно разными казнями. Руки палачей утомились и уныние было в высочайшей степени». Через несколько дней Деваль пошел посмотреть на то место, где происходила резня: «Никогда не видал я отвратительнейшего зрелища. Развалины главной казармы еще дымились, посреди их валялись трупы, испускавшие отвратительное зловоние. <...> Собаки, ястребы и коршуны оспаривали друг у друга трупы» ([Деваль Ш.] Два года в Константинополе и Морее (1825-1826), или Исторические очерки Махмуда, Янычар, новых войск, Ибрагима-Паши, Солиман-Бея, и проч. Пер. с французского А.О. СПб., 1828. С. 125-130).
4) Сочинения Пушкина. СПб., 1855. Т. II. С. 542. Гипотезу Анненкова о том, что Жуковский пользовался неизвестным нам беловым автографом СГ-1830, более века спустя повторил Н.К. Гудзий. См. работу: Гудзий Н.К. К вопросу о пушкинских текстах: о посмертном издании сочинений Пушкина // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 378-386. Доказать или опровергнуть эту гипотезу не представляется возможным.
5) Сочинения Пушкина. Т. II. С. 542-543.
6) Черняев Н.И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 7.
7) Кошелев В.А. Историософская оппозиция «Запад - Восток» в творческом сознании Пушкина // Пушкин: История и предание. Очерки. С. 274. Первая публикация этой работы: Русская литература. 1994. № 4. С. 3-16.
8) Автограф № 917 в: Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года. Краткое описание. М; Л., 1964. С. 21.
9) Vickery W.N. Стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» и ирония судьбы // Revue des etudes slaves. T. 59. Fascicule 1-2. Alexandre Puskin 1799-1837. Paris, 1987. P. 329.
10) Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 353.
11) Черняев Н.И. Критические статьи и заметки о Пушкине. С. 4.
12) Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. Второе дополненное издание. М., 1931. С. 193-196.
13) Там же. С. 194.
14) Ср.: «Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Некогда в Москве пребывало богатое, неслужащее боярство, вельможи оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники - все исчезло <...> Горе от ума есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад - и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны <...> Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. Бедная Москва!..
Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальном берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II-го снова утвердила за Петербургом его недавние права.
Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о которых успеем еще потолковать» (XI, 245-247).
15) Благой Д. Социология творчества Пушкина. С. 196. Обратим внимание на ошибку Благого, спутавшего календарные стили. По григорианскому календарю восстание декабристов произошло 26 декабря, а восстание янычаров - 15 июня.
16) Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина, 1826-1830. М., 1967. С. 522.
17) Гиллельсон М.И. Пушкинский «Современник» // Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 16-17; ЭйдельманН.Я. «Быть может за хребтом Кавказа» (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст). М., 1990. С. 200-202.
18) Vickery W.N. Стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» и ирония судьбы. P. 332.
19) Кошелев В.А. Историософская оппозиция «Запад - Восток» в творческом сознании Пушкина. С. 288-289.
20) Сокращения после даты многократно привлекали внимание исследователей, которые предлагали различные чтения и расшифровки, принять которые не представляется возможным. П.В. Анненков читал помету как «Предъ разб. ст.» (Сочинения Пушкина. Т. II. С. 543), что, по его мнению, означало «Перед разбитой статуей» ([Анненков П.В.] Материалы для биографии Ал. Пушкина // Сочинения Пушкина. Т. I. С. 310). Д. Благой понял первую аббревиатуру как «Предп.», а всю помету - как запись для памяти: «Предпослать разбор стихов» (Благой Д. Социология творчества Пушкина. С. 306-307. Прим. 47). У. Викери связал сокращения с центральной темой первой строфы СГ-1830 - ожиданием гибели Стамбула в наказание за отказ от «правды древнего Востока». По его предположению, помета должна читаться как «Предчувствие (предчувствует) разбития(е) столицы» (Викери У. Загадочная помета Пушкина // Временник Пушкинской комиссии 1977. Л., 1980. С. 91-95). Викери возражала Р.Е. Теребенина, утверждавшая, что помета явно была сделана после заполнения по крайней мере одного листа рукописи и потому едва ли имеет отношение к идее стихотворения. «По местоположению и характеру, - справедливо отмечает она, - ...это типичная для поэта помета о событиях, фактах или состоянии, сопутствующих созданию произведения (Теребенина Р.Е. Пометы Пушкина на рукописях // Временник Пушкинской комиссии 1977. С. 97). Однако предложенные ею варианты расшифровки («Предчувствие разбор статей», «Предчувствие разбитое стекло» и т.п.) не кажутся убедительными. С.А. Фомичев поддержал расшифровку Викери, но отнес помету не к стихотворению, а к приезду Пушкина в Петербург после ссылки 17 октября 1827 года (Фомичев С.А. Служенье муз. О лирике Пушкина. СПб., 2001. С. 152-153); Я.Л. Левкович предложила новое прочтение: «Прозч. разб. ст.», полагая, что Пушкин имел в виду «Опровержение на критики», назвав его «Прозаический разбор статей» (Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. XVII (дополнительный). Рукою Пушкина. Выписки и записки разного содержания. Официальные документы. Изд. 2-е, переработанное / Отв. ред. Я.Л. Левкович, С.А. Фомичев. М., 1997. С. 282- 284). Боюсь, загадка пометы так никогда и не будет разгадана.
21) Листов В.С. К истолкованию стихотворения Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят...» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1996. Т. 55. № 6. С. 41-46; Листов В.С. Новое о Пушкине. М., 2000. С. 196-201.
22) См.: Белкин Д.И. О комментариях к стихам «Стамбул гяуры нынче славят...» // Болдинские чтения . Горький, 1983. С. 119-128.
23) Fontanier V. Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvernement Frangais, de l"annee 1821 a l"annee 1829. (Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание) // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. IX/X. С. 233. № 919 - далее в ссылках: Библиотека Пушкина). О полемике Пушкина с Фонтанье см.: Долинин А. Пушкин и Виктор Фонтанье // Европа в России. М., 2010. С. 105-124.
24) Esquisses des mreurs turques au XIX-e siecle; ou scenes populaires, usages religieux, ceremonies publiques, vie interieure, habitudes sociales, idees politiques des mahometans, en forme de dialogues, par Gregoire Palaiologue, ne a Constantinople. Paris, 1827 (Библиотека Пушкина. С. 304. № 1236). Русский перевод главы из этой книги, в которой речь идет об уничтожении янычаров и формировании новой армии по западным образцам, печатался под названием «Турецкие нравы в XIX веке» в «Сыне отечества» (1828. № 14. С. 151 - 161).
25) Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вену. Соч. Р. Вальша, бывшего при английском посланнике, Лорде Странгфорде. Перевел с французского С. де-Шаплет. СПб., 1829 (Библиотека Пушкина. С.18. № 61). Оригинал: Rev. Robert Walsh. Narrative of a Journey from Constantinople to England. L., 1828. Эта книга была доступна и во французском переводе: Walsh R. Voyage en Turquie et a Constnatinople. Traduits de l"Anglais. P., 1828.
26) Niellon-Gilbert. La Russie ou Coup d"oeil sur la situation actuelle de cet Empire. P., 1828. P. 150-165 (Библиотека Пушкина. С. 299. № 1214).
27) Deux annees a Constnatinople et en Moree (1825-1826), ou Esquisses histo- riques sur Mahmoud, les Janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pasha, Soliman- Bey, etc. par M. C… D.... Paris, 1828.
Русский перевод фрагментов: Два года в Константинополе и Морее (1825- 1826), или Исторические заметки о Султане Махмуде, Янычарах, новых Турецких войсках, Ибрагиме Паше, Солимане Бее, и пр. Сочин. С.Д. (Отрывки) // Сын отечества. 1828. Ч. 117. № 2. С. 208-217; Ч. 117. № 3. С. 301-308; № 4. С. 389-402; Ч. 118. № 5. С. 36-61. [С фр. С.-въ]); Султан Махмут и Турция // Московский телеграф. 1828. Ч. 21. № 10. С. 333-340. Полный русский перевод: Два года в Константинополе и Морее... (см. примеч. 3).
28) Macfarlane C. Constantinople in 1828. Французский перевод: Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829, par Charles Mac-Farlane; traduit de l"anglais par MM. Nettement. 3 tomes. P., 1830. Отрывки из книги печатались в «Вестнике Европы» под заглавием «Султан Махмут»: 1830. Ч. 170. № 2. С. 152-161; № 3. С. 204-211.
29) [Сенковский О.И.] Способности и мнения новейших путешественников по Востоку // Библиотека для чтения. 1835. Т. XIII. Отд. 3. С. 136.
30) Abbe de Pradt. L"Europe par rapport a la Grece et a la reformation de la Turquie. P., 1826. P. 118-121, 124-149.
31) Муравьев (Карсский) Н.Н. Дела Турции и Египта в 1832 и 1833 годах. Т. I: Военное и политическое состояние. М., 1869. С. 11.
32) Русские на Босфоре в 1833 году. Из записок Н.Н. Муравьева (Карсского). М., 1869. С. 10.
33) Rev. Robert Walsh. Narrative of a Journey from Constantinople to England. L., 1828. P. 63. Walsh R. Voyage en Turquie et a Constnatinople. Traduits de l"Anglais. Paris, 1828. P. 58. В русском переводе этот пассаж отсутствует.
34) Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvernement Frangais, de l"annee 1821 a l"annee 1829, Ornes de Figures et d"une Carte; Par V. Fontanier. P. 27.
35) Deux annees a Constnatinople et en Moree. P. 107. В полном русском переводе сравнение Махмуда с Петром отсутствует, хотя во фрагментах, напечатанных в «Сыне отечества», оно было сохранено. Ср.: «Как, за сто двадцать лет пред тем, Петр Великий уничтожил стрельцов; так и в наши времена Могамед-Али в несколько часов истребил целое войско Мамелюков» (Ч. 117. № 3. С. 302).
36) См., например: Itineraire de Tiflis a Constantinople par le Colonel Rottiers. Bruxelles, 1829. P. 360; CornilleH. Souvenirs d"Orient: Constantinople - Grece - Jerusalem. 2me edition. P., 1836. P. 86-87.
37) Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. С. 32-33.
38) Voyages en Orient. P. 30-31.
39) Niellon-Gilbert. La Russie ou Coup d"oeil sur la situation actuelle de cet Empire. P. 158- 159.
40) Настоящее состояние и будущность Оттоманской Империи (Westminster Review) // Телескоп. 1833. Ч. 16. С. 552.
41) О реформах Махмуда см.: Боджолян М.Т. Реформы 20-30-х гг. XIX века в Османской империи. Ереван, 1984; Lewis B. The Emergence of Modern Turkey. Third edition. N.Y.; Oxford, 2002. P. 78-106; Wheatcroft A. The Ottomans. London; N.Y., 1993. P. 167-183.
42) Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вену. С. 81-82; Walsh R. Narrative of a Journey from Constantinople to England. P. 77.
43) Macfarlane C. Constantinople in 1828. Vol. II. P. 206-207.
44) Ibid. P. 172-173. На должность придворного капельмейстера Махмуд пригласил итальянца, брата знаменитого оперного композитора Гаэтано Доницетти Джузеппе, который написал национальный гимн Турции и создал военный духовой оркестр (см. об этом: Lewis В. The Emergence of Modern Turkey. P. 84, 441; Ferguson N. Civilization: the West and the Rest. N.Y., 2011. P. 88).
45) Macfarlane C. Constantinople in 1828. Vol. II. P. 25, 225.
46) Булгарин Ф. Картина войны России с Турциею в царствование императора Николая I. С присовокуплением подробного описания Битвы Наваринской, составленного В.Б. Броневским. СПб., 1830. Т. 3. С. 26.
47) Macfarlane C. Constantinople in 1828. Vol. II. P. 5-6. Слухи о пристрастии Махмуда к вину, кажется, имели под собой серьезные основания. Граф Рибопьер вспоминал, что на приеме в русском посольстве султан с трудом отводил глаза от бутылок и графинов со всякого рода винами, а потом «полюбопытствовал всего этого попробовать». Рибопьер послал ему полдюжины лучшего своего вина: «Султан был в восторге от моего угощения и так часто стал обращаться ко мне с подобными же требованиями, что вскоре весь мой запас красного вина вышел» (Записки графа Рибопьера. С. 32).
48) Voyages en Orient. P. 321, 322.
49) Esquisses des mreurs turques au XIX-e siecle. P. 8, 10.
50) Ibid. P. 118, 30-34.
51) Турецкие нравы в XIX веке. С. 157, 159-160, 161.
52) Булгарин Ф. Картина войны России с Турциею... Т. III. С. 98. Ср. также: Macfar- lane С. Constantinople in 1828. Vol. II. Р. 323.
53) P..... Projet d"une invasion de l"Inde // Revue des deux mondes. T. II. Novembre 1829. P. 148.
54) Edward Law, Earl of Ellenborough. A Political Diary 1828 to 1830 / Ed. by Lord Colchester. London, 1881. Vol. 2. P. 88-89.
55) Еще до заключения Адрианопольского мира в «Вестнике Европы» можно было прочитать, что «Султан очень заботится о перемене системы, как скоро окончание нынешней войны дозволит приступить к оному» (Взгляд на внутреннее состояние Турецкой Империи (Из British Chronicle) // Вестник Европы. 1829. Ч. 166. № 12. С. 312).
56) [Сенковский О.И.] Способности и мнения новейших путешественников по Востоку. С. 115.
57) Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вену. С. 190.
58) The Westminster Review. Vol. XIX. 1833, April - July. P. 163-178; The Quarterly Review. Vol. XLIX. 1833. № 98. P. 283-322.
59) Настоящее состояние и будущность Оттоманской Империи. С. 532.
60) Тепляков В. Письма из Болгарии (Писаны во время кампании 1829 года). М., 1833. С. XIV-XV.
61) Как отметил Ю.М. Лотман, для Пушкина «христианство - основа и сущность европейского просвещения» (Лотман Ю.М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год) // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки 1960-1990; «Евгений Онегин»: Комментарии. СПб., 1995. С. 305).
62) См. об этом: Комарович В.Л. Вторая кавказская поэма Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. VI. М.; Л., 1941. С. 225-228; Тоддес Е. О незаконченной поэме Пушкина «Тазит» // Пушкинский сборник. Псков, 1973. С. 67-68.
63) Русские на Босфоре в 1833 году. Из записок Н.Н. Муравьева (Карсского) / Изд. Чертковской библиотеки. М., 1869. С. 12.
64) Там же. С. 450.
65) Настоящее состояние и будущность Оттоманской Империи. С. 552-553.
66) Кошелев В.А. Историософская оппозиция «Запад - Восток» в творческом сознании Пушкина. С. 292. Ср. также сходные суждения А. Эткинда, полагающего, что СГ-1835 - это «пафосные стихи» и что в них «поэт продолжает верить в то, что он, историк и путешественник, высмеивает в прозе. <.> Поразительно наблюдать, как различие жанров порождает различие идеологий» (Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., 2001. С. 52).
67) Измайлов Н.В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20-30-х годов // Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 238.
Отношения между Константинополем и Римом накануне великого раскола.Спаситель сказал, что перед кончиной мира Евангелие будет проповедано по всей вселенной, во свидетельство воем народам.., но Сын Человеческий придя, найдёт ли веру на земле (Мф. 24, 14, Дк. 18, 8). По толкованию святых отцов, эти слова Господа указывают нам на то, что перед концом мира большая часть людей будет неверующая, а другая - еретичествующая. Начало такому массовому отступлению от истины было положено в 1054 году, потому что расколы, которые возникали раньше, были незначительными, а раскол, продолжающийся уже почти 1000 лет, историки по праву называют великим, ибо он привёл к тому, что почти весь Запад оказался вне общения с Православной Церковью.
"Домянух дни древния, поучихся во всех делах твоих, в творениях руки Твоею поучахся" (Пс. 142, 5) - воспевает в своих боговдохновенных псалмах святой псалмопевец Давид. Последуем и мы его примеру и рассмотрим, как складывались отношения между Константинополем и Римом накануне великого раскола.
Как известно из истории, из-за различных условий исторической жизни, невозможности частых сношений в связи с дальностью расстояний, ещё во II веке между церквами Запада и Востока возникали некоторые недоразумения: спор о праздновании Пасхи, о падших, о перекрещивании еретиков. Различные мнения по этим вопросам давали повод к временным недоразумениям, но такие разности благодаря твёрдой вере, братской любви, которые были присущи древним церквам, в эпоху гонений мирно разрешались и не нарушали союза церквей Запада и Востока. Можно также утверждать, что такому церковному единству, помимо выше названных причин, в какой-то мере способствовал и внешний ограждающий фактор - это Римская империя, которая
включала в себя почти всю паству восточных и западных епархий.
Но в начале 4 века на Западе империю начинают теснить варварские племена гуннов и готов, и император Константин вынужден перенести в 330 году столицу империи с Запада на Восток, в Константинополь. А в 395 году произошло разделение империи на Восточную и Западную. Под ударами варваров Рим стал последовательно переходить из рук в руки различных народностей, которые почти полностью уничтожили его былое величие. Только императору Юстиниану I (527-565гг.) удалось отвоевать у готов южную Италию, Сицилию и Калабрию и поставить во главе итальянской провинции своего наместника - экзарха, который пребывал в Равенне. Когда Константинополь стал единственным центром империи, императоры, чтобы прибавить "вес" своей столице, старались усилить влияние епископов и давали им различные преимущества. Со времён архиепископа Нектария (З81-397гг.) в Константинополе стали собираться соборы епископов, находящихся в столице по каким-либо нуждам. И они решали назревшие церковные дела под председательством Константинопольского архиепископа. На II Вселенском Соборе был издан 3-й канон, который санкционировал такую практику. Он гласит:
"Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град оный есть новый Рим"(1) На IV Вселенском Соборе 28 правилом такой порядок был окончательно утверждён.
В результате быстрого возвышения константинопольского архиепископа стало ощущаться соперничество между старым и новым Римом.
Несмотря на политическое умаление Рима, римский епископ, благодаря высокому духовному авторитету, не терял своего первенствующего положения среди других епископов. Римские епископы были предстоятелями той Церкви, которая в тяжёлые годы гонений была убежищем для изгнанных, защитницей и ходатаицей их. Поэтому епископы антиохийские, иерусалимские,александрийские, ефесские и другие питали глубокое уважение к римскому епископу и по инерции продолжали обращаться к нему, как признанному духовному авторитету, хотя сами имели своё преимущественное влияние на окрестные церкви и первенство голоса в делах их. С уважением к римской кафедре соединялось и благоговейное воспоминание о верховных апостолах Петре и Павле, положивших на Западе основание Церкви и принявших мученическую смерть, а также о многих великих святителях, украшавших её, о бесчисленном множестве пострадавших в Риме мучеников.
Удаление царского двора дало римскому папе гораздо большую независимость от государственной власти, чем константинопольскому патриарху. Благодаря огромному авторитету среди народа, римский епископ остаётся единственным представителем высшей власти в Риме. Во время нашествия на Италию варваров, папы выступали как защитники населения от варварского разграбления. И варвары, которые завоёвывали Запад, для укрепления своих позиций невольно нуждались в признании себя духовной римской властью. Так постепенно возвышение римского епископа в глазах западной общественности стало очевидным, и всё более укреплялось под покровительством тех народов, которые завоёвывали Запад.
Вследствии этого, как пишет историк Э.Поснов, отношения пап и византийским императорам начали складываться совсем иначе, чем отношения между патриархами и императорами.(2)
Обладая высоким духовным авторитетом, и чувствуя за собою политическую силу, римские папы во время тринитарных и христоло-гических споров почти всегда принимали и защищали сторону православных. Папы не боялись византийских императоров, которые ради спокойствия в империи и сохранения своих политических интересов в Египте, Сирии, Армении, Антиохии заставляли восточных епископов выносить компромиссные решения в вопросах веры.
Так в 484 году Римская Церковь прервала общение с Константинополем из-за промонофизитской политики императора Зенона и патриарха Акакия. Раскол длился 35 лет и только император Юстиниан, который стремился восстановить на Западе древнюю римскую империю, вынужден был начать свою религиозную политику с примирения с Римом. Ценой этого примирения, как замечает прот. Александр Шмеман, было подписание патриархом и епископами папистического документа, какого ещё никогда не видала Восточная Церковь. Православные патриархи Евфимий и Македонии, сами жертвы монофизитства, уже прославленные как святые в Константинополе, должны были быть осуждены своей же церковью только потому, что они правили ею в год, когда между Римом и Константинополем было прервано общение?(3)
Так всё более и более к авторитету римского епископа примешивалось властолюбие и вместе с ним из-за компромиссной политики византийских императоров, которые заставляли восточных епископов искать компромиссы в вопросах веры, росло недопонимание в отношениях между Константинополем и Римом. На Западе, где было меньше борьбы с ересями, но больше физической борьбы, постепенно стало складываться мнение о Востоке, как еретическом "рассаднике", который надо лечить. Такое мнение особенно усилилось в период иконоборчества.
Когда в 716 году на византийский престол вступил император Лев III Исавр и начал проводить иконоборческую политику, это вызвало восстание в Италии. Народ хотел избрать другого императора и идти с ним против константинопольского царя, чтобы свергнуть его с престола, как ересиарха. Только папе Григорию удалось успокоить народ обещанием вразумить императора. На укоризны папы за отступление от Церкви Дев отвечал, что это дело должно быть решено Вселенским Собором. Но папа писал: "Мы не имеем православного императора, который бы, по древнему обычаю, принял участие в этом соборе. Ты угрожаешь мне смертью, но знай, что римские епископы поставлены как бы разделительною стеною, как бы посредниками и судьями между Востоком и Западом. Взоры всего Запада обращены на нас. Все западные государства почитают апостола Петра, как земного бога. Весь Запад готов убедить тебя в этом? (4)
Как можно судить по этому письму, папа уже достаточно определённо осознаёт себя выше восточных и западных епископов, чувствует свой "вес" среди западных государств и надеется на их поддержку, а потому не боится византийского императора. Не дождавшись от него покаяния, папа отлучил его и всех иконоборцев от Церкви. Император послал флот, чтобы доставить папу в оковах в Константинополь, но около Равенны флот был разбит бурей. Стараясь всё жене оставить папу безнаказанным, император отнимает у римской кафедры патриномии в Сицилии и Калабрии, а Иллирик и Балканский полуостров передаёт под юрисдикцию константинопольского патриарха.
Этим император папе нанёс огромный материальный и моральный ущерб. Отныне эти территории стали "камнем преткновения" в отношениях между Римом и Константинополем.
Разорвав отношения с византийскими императорами, под угрозой со стороны лангобардов, папы увидели необходимость искать союзников среди других государств. Их взоры обратились на усиливающихся в это время на Западе Франкских королей. Папа Григорий III приветствовал короля Карла Мартела, как победителя. Преемник Карла,Пилил, в благодарность за полученное от папы королевское миропомазание, отдал Римской Церкви все земли, отвоёванные у лангобардов. Так было положено начало светской власти пап.
С точки зрения здравого смысла, иного выхода у пап не было, и в период иконоборчества они действовали совершенно правильно, разорвав отношения с императорами-иконоборцами и связав свою судьбу с франкскими королями. Но, как замечает историк Г.Борнан,"история Церкви имеет определённую особенность: с одной стороны, живя в мире, она испытывает на себе его влияние; с другой стороны, ничего невозможно понять в жизни Церкви, не учитывая её жизни духовной. Церковь живёт иначе, чем мир, она живёт не по законам мира, а по законам духа". (5) Поэтому вышло так, что после восстановления иконопочитания, хотя церковное единство между Константинополем и Римом было возобновлено, духовный антагонизм между ними усугубился. Можно предполагать, что причиною этому было то, что если Константинопольская Церковь после тяжёлой борьбы с иконоборцами вышла победительницей и в 843 году отпраздновала торжество Православия, то Римская Церковь, связав себя со светской властью пап, променяла своё первородство на "чечевичную похлёбку" франкского короля.
В отличие от Пастыреначальника Иисуса Христа, Который на горе Искушения отверг предложения диавола поклониться ему взамен на власть над всеми царствами мира, римские первосвященники на высоте огромного авторитета, который по праву принадлежал многим достойным их предшественникам, не устояли перед этим соблазном.
Чтобы как-то на законных основаниях обосновать своё право на духовную и светскую власть, в конце VIII века была сочинена подложная дарственная запись, якобы Константина Великого римскому папе Сильвестру, по которой св.Константин, приняв крещение от папы, решил перенести свою столицу на Восток, а Рим и весь Запад отдал в духовное и светское владение пане.
Папа Николай I впервые на практике стал подчинять своему влиянию светскую власть и в то же время заявлять о своих правах на только на Западную, но и на Восточную Церковь. Повод к вмешательству в дела Константинопольской Церкви папе дали возникшие в середине IX века споры фотиан и игнатиан. Хотя папа прекрасно понимал, что оба патриарха стали жертвами политика императора и делить им нечего, но он хотел использовать это иерархическое замешательство с той целью, чтобы возвратить себе Южную Италию и Илирик и распространить своё влияние на Восток.(6) Но патриархи Фотий и Игнатий понимали, что интересы их общие. И тот в другой выступили в защиту прав Константинопольской Церкви, и папа от них ничего не добился. Когда скончался патриарх Игнатий, то патриарх Фотий в 879 году созвал собор. Главной заслугой этого собора было то, что Рим и Константинополь в духе решений семи Вселенских Соборов признали общую церковную традицию единой Православной Церкви. По предшествующим событиям можно предполагать, что такое соборное решение скорее всего было продиктовано не духом братской любви, а политическими соображениями. В это время и Рим и Константинополь нуждались в помощи друг друга для борьбы с усиливавшимися на Западе норманами. Но так или иначе церковное единство ещё на какое-то время было сохранено.
В Х - начале XI в. в отношениях между Римом и Константинополем наступило некоторое затишье. Причинами его были: двойственная политика губернаторов Южной Италии, которая снимала проблему территорий; личная слабость самих пап, которые, будучи связаны светской властью, оказались в центре борьбы между грекофильской и прогерманской партиями и очень быстро сменяли друг друга. Им некогда было заниматься проблемой взаимоотношения Церквей. А на Константинопольской кафедре в это время были довольно бесцветные личности, которые ради политической нужды византийских императоров догматическую строгость отодвигали на второй план. Константинополю во что бы то ни стало был нужен политический союз с Римом, чтобы противостоять германскому императору и сохранить своё влияние в Южной Италии и Илирии.
Отношения между Константинополем и Римом обострились в тот момент, когда в Риме восторжествовала прогерманская партия, и папский престол оказался в полной зависимости от германского императора, который, стараясь расширить своё влияние на Западе, не был заинтересован в сохранении связей между Римом и Византией и всё делал для того, чтобы разорвать их.(7)
Как можно судить по историческим исследованиям Э.Поснова, прот. А.Шмемана, Г.Борнана, ещё какое-то время византийскому императору удавалось сдерживать натиск германцев через церковно-территориальные уступки в Южной Италии прогерманскому папе. Но когда на константинопольскую кафедру вступил бескомпромиссный и решительный патриарх Михаил Керулларий, то он не захотел жертвовать интересами церкви ради политических интересов империи. По его поручению один из видных византийских иерархов Лев Охридский написал сочинение против латинских обрядов. Это сочинение, попав в руки прогермански настроенного кардинала Гумберта, не могло ему понравиться. И он, в сопровождении двух папских легатов, прибыл в Константинополь, чтобы через императора, который был заинтересован в сохранении политических связей с Римом, смирить бескомпромиссного патриарха. Но кардинал переоценил силу императора. Он ничего не мог сделать, так как патриарх пользовался большой поддержкой народа. Тогда кардинал решался на последний "роковой шаг". Перед Богослужением он вошёл в храм св.Софии и положил на св. престол папскую буллу с анафематствованием патриарха и всех его сторонников, ожидая, что только так удастся смирить патриарха. Но в столице начался народный бунт против легатов. В ответ на поступок легатов патриарх Михаил созывает церковный собор, на котором была провозглашена анафема зачинщикам церковного разрыва. Так было положено официальное начало церковному расколу. Прот. Александр Шмеман и другие историки считают, что разрыв 1054 года был только началом разделения церквей, что сначала он переживался скорее как один из тех временных раздоров между двумя кафедрами, каких много бывало и раньше, церковные связи не всюду и не везде были сразу порваны. По-настоящему разрыв этот перерос в окончательное разделение, в расово-религиозную ненависть только в эпоху крестовых походов.(8) Но можно добавить, что все-таки, кал видно из отношении между старым и новым Римом накануне раскола, духовный антагонизм рос по мере того, как в отношениях между Церквами росла роль политического фактора, что не должно бы иметь место по евангельскому идеалу.
ЛИТЕРАТУРА:
1.М.Э. Поснов. История христианской Церкви,Брюссель, 1964. С. 293.
2.Там же. С. 260.
3. Прот. А. шмеман. Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954. С. 197.
4. М.Э. Поснов. История христианской Церкви. Брюссель, 1984. С. 295.
5. Г.Борнан. Раскол 1054 года между христианским Востоком и Западом. Париж, 1Э84. С. 3.
6. О том, что патриархи стали жертвой политики императора при поставлении на кафедру в своём письме папе сообщал патриарх Фотий.
7. В 1014 году германский император Генрих П повелел папе Бенедикту VIII ввести в пение Символа веры Filioque Г.Борнан Раскол 1054 года между христианским Востоком и Западом. Париж, 1963. С. 60.
8. Прот. А.Шмеман. Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954. С. 297.
После падения Константинополя вся геополитическая картина резко изменилась. Несмотря на то, что константинопольский Патриарх оставался главой Православ ной Церкви, стройность всей структуры нарушилась. Напомним, что одним из краеугольных камней Правосла вия было учение о сотериологической функции Империи, а так как Православной Империи (и, соответствен но, православного Императора, Василевса) больше не существовало, то Церковь вынуждена была вступить в новый, особый и достаточно парадоксальный, период своего существования. С этого момента весь православный мир делится на две части, имеющие глубокие различия не только с геополитической, но и с богословской точки зрения.
Первый сектор поствизантийского православного мира представляют собой те Церкви, которые оказались в зоне политического контроля неправославных государств, особенно в османской империи. Эти Церкви администра тивно входили вплоть до распада этой империи в т.н. православный "миллет", который включал православ ных греков, сербов, румын, албанцев, болгар и арабов. Верховной фигурой среди этих православных считался Патриарх Константинопольский, хотя наряду с ним существовали Патриарх Александрийский (архипастырь православных греков и арабов, проживающих в Египте) и Патриарх Антиохийский (глава православных арабов на территории современных СирииИракаЛивана). Особым статусом обладал небольшой Иерусалимский Патриархат, а также автокефальные Церкви Кипра и горы Синай. Константинопольский Патриархат считался духовно главенствующим во всем православном мире, хотя здесь не существует такой прямой иерархии, как в католичестве, и автокефальные церкви имели значительную долю самостоятельности. Константинопольский Патриархат расположен в квартале Фанар, и от этого слова происходит собирательное название греческого клира, подчиненного этому Патриархату "фанариоты". Заметим, что начиная с 1453 года этот сектор православного мира пребывает в двусмысленном положении и на геополитическом и на богословском уровнях, так как отсутствие православной государственности прямо влияет на эсхатологическое видение православными политиче ской истории и означает пребывание Церкви в мире как в "море апостасии", где мистическому приходу "сына погибели" уже ничто не мешает. Неизбежный отказ от православной симфонии властей превращает греческую Православную Церковь (и другие, связанные с ней политической судьбой, церкви) в нечто иное, нежели то, чем она являлась изначально. Это значит, что ее богослов ские и геополитические ориентации меняются. Меняется и ее сакральная природа.
Ясное понимание взаимосвязи между богословием и политикой в полноценной православной доктрине заставило Россию встать на тот путь, которому она следует с XV века, и который теснейшим образом связан с теорией "Москвы Третьего Рима". Россия и Русская Православная Церковь это второй сектор поствизантийско го восточного христианства, имеющий совершенно иную геополитическую и даже духовную природу.
Установление на Руси Патриаршества и провозгла шение Москвы "Третьим Римом" имеет прямое отношение к мистической судьбе Православия как такового. Русь после падения Константинополя остается единственным геополитическим "большим пространством", где существовала и православная политика и православная Церковь. Русь становится преемницей Византии и по богословским мотивам и на геополитическом уровне. Только здесь сохранились все три основных параметра, которые делали Православие тем, чем оно являлось, в отличие и от латинского Запада и от политического господства нехристианских режимов. Следовательно, вместе с мистическим статусом "преграды для прихода сына погибели" Москва наследовала и всю полноту геополитической проблематики Константинополя. Так же, как и Византия, Русь столкнулась с двумя враждебными геополитическими реалиями с той же "латинской митрой" и тем же "турецким тюрбаном". Но в данном случае вся полнота исторической ответственности падала на русских царей, русскую церковь и русский народ. Тот факт, что эта ответственность была передана Москве после падения Константинополя, наделял всю ситуацию особым эсхатологическим драматизмом, отразившимся не только на психологии русских в последние пять веков, но и на специфике геополитической ориентации русского государства и русской Церкви. Параллельно этому сформировалась концепция русского народа как "народа-бо гоносца".
Но одновременно появилась и новая проблема: отношения с православным миром за пределом Руси и статус Константинопольского Патриарха применительно к Патриарху Московскому. Дело в том, что нерусские православные оказались перед дилеммой: либо признать Русь "ковчегом спасения", новой "Святой землей", "катехо ном" и, соответственно, подчиниться духовному авторитету Москвы, либо, напротив, отрицать возможность существования "православного царства" как такового и отнестись к Москве как к нелегитимной узурпации византийской эсхатологической функции. Соответственно этому выбору должна была строить свои отношения с остальными церквями и Москва. Можно сказать, что, фактически, с этого момента православный мир разделился на две части, различающиеся и геополитически и теологически. Известно, что в Константинопольской сфере влияния победила антимосковская линия, а значит, клир фанариотов адаптировал православную доктрину к тем условиям, когда о политической проекции не могло ыть и речи. Иными словами, греческое Православие изменило свою природу, превратившись из интегрально го духовно-политического учения, в исключительно религиозную доктрину индивидуального спасения. И отныне соперничество Константинополя с Москвой являлось, по сути, противостоянием двух версий Правосла вия полноценного, в случае Москвы, и редуцирован ного, в случае Константинополя.
Более того, изменения качества греческого Правосла вия сблизило его, в некотором смысле, с линией Рима, так как один из трех основных пунктов догматических противоречий (вопрос о "катехоне") отпал сам собой. Духовное сближение фанариотов с Ватиканом сопровожда лось их политическим сближением с турецкой администрацией, в которой многие православные греки традиционно занимали высокие посты. Такое раздвоенное существование, сопряженное с соперничеством с Русской Церковью за влияние над православным миром, фактически, лишило греческое Православие самостоятельной геополитической миссии, сделало его лишь одним из второстепенных геополитических факторов в более общем неправославном контексте политических интриг Османских властей и папских легатов.
Как бы то ни было, с XV века термин "геополитика Православия" стал почти тождественным термину "геополитика России".
Вместе с тем, неверно было бы рассматривать весь нерусский православный мир как подконтрольный политике фанариотов. В различных его частях существо вали и противоположные настроения, признававшие за Православной Русью богословское и эсхатологическое первенство. Особенно это касалось сербов, албанцев, румын и болгар, у которых русофильские и фанариотские геополитические тенденции традиционно конкурировали. Со всей силой это проявилось в XIX веке, когда православные народы, входившие в состав Османской империи, предприняли отчаянные попытки восстановить свою национальную и политическую независимость