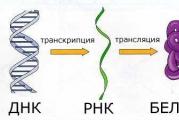Божья коровка. Сказка
Все события, происходящие в романе, вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.
Часть I
…«Сколиоз, аллергия на крыжовник, и к тому же в детстве занималась самыми преступными видами спорта. С точки зрения какой-нибудь зачумленной супер-Линды Евангелисты… Академической греблей, например. Или толканием ядра, ежу понятно… Куда только смотрели имбецилы-родители, так испохабить девчонку! Бедная ты бедная, а со спиной у тебя труба… Не те позы принимаешь, когда дело доходит до секса. Если, конечно, вообще доходит до него, а не до сносок в «Камасутре», – думал патологоанатом.
«Совсем не похожа на красавчика-брата-погибель-всех-швей-мотористок. Крановщиц из пригорода, приемщиц ателье и кондукторов с высшим филологическим… Даже мои ботинки больше смахивают на красавчика, чем она. Даже шнурки от ботинок. Бедная ты бедная, а растреклятым онучам самое место в мусоропроводе. Три года оттаскал, пора и честь знать», – думал следователь.
«Голубок и горлица никогда не ссорятся… Этого не может быть. Не может. Не может… Все, что угодно. Только не это. Голубок и горлица никогда не ссорятся. Никогда. Бедный ты бедный, а виноград?.. Целая сумка винограда и твои любимые гранаты… Что я теперь с ними буду делать?» – думала Настя.
– Прошу, – промурлыкал патологоанатом игривым тоном, более уместным для бокала шампанского с последующим приглашением на танец, чем для морга судебной экспертизы.
Следователь посмотрел на него с привычной укоризной и дернул подбородком: креста на тебе нет, мясник-расстрига, дневальный по бойне, креста на тебе нет.
Конечно, нет.
Патологоанатом осклабился и подмигнул следователю разбойной серьгой в ухе: конечно, нет! Я же буддист. И все мои покойнички, выпотрошенные и пронумерованные, тоже приобщаются, ожидают реинкарнации, ковыряясь в мертвых носах. Под белыми простынками. А белый, как известно, цвет траура на родине папаши-Шакьямуни, так что все приличия соблюдены.
– Подойдите, пожалуйста. – Следователь ухватил Настю за локоть и почти силой подтащил к телу, целомудренно прикрытому простыней. А патологоанатом приподнял ее край.
Голубок и горлица никогда не ссорятся.
Это было правдой. Они никогда не ссорились. Настя и Кирюша. Настя – старшенькая, Кирюша – младшенький. Девять лет разницы в возрасте ничего не значили. Девять – любимое число Кирюши, тройственный союз мысли, тела и духа, порядок внутри порядка, девять ангельских хоров. Кирюша тоже пел в хоре – не в ангельском, конечно, а в самом обычном хоре их местного культпросвета. А потом бросил все – и хор, и училище. И родной городишко у моря, где самой большой достопримечательностью была мемориальная доска на здании больницы: «Здесь 3-11 сентября (по старому стилю) 1915 года находился на излечении чувашский советский писатель Иоаким Максимов-Кошкинский».
…Он бросил все – и Настю заодно.
И уехал в этот северный, бледнолицый и бесприютный город. Чтобы теперь, спустя три года, покончить жизнь самоубийством.
– Узнаете? – спросил следователь.
Что теперь делать с виноградом? И с гранатами – твоими любимыми?.. И эта полоса на шее – нет, Настин Кирюша никогда бы такого не сделал. Никогда.
– Узнаете? – Следователь начал проявлять признаки сдержанного нетерпения.
Настя отрицательно покачала головой, а потом ухватилась за край каталки.
– Значит, не узнаете? А по документам значится, что это Лангер Кирилл Кириллович. Ваш брат.
Он вовремя поднес ей стакан воды, патологоанатом. Он знал, что нужно делать в таких случаях: все цепные псы у ворот Смерти это знают. Настя застучала зубами о стакан.
– Это не мой брат. Нет. Нет… Нет…
Следователь и патологоанатом переглянулись: может быть, спирту ей в глотку? Может быть, вывести слабонервную страдалицу от греха подальше? И вообще, имеет ли какое-то отношение к душке-самоубийце эта провинциальная фря?..
– Держи ее, – процедил следователь, когда Настя потеряла сознание.
– Твою мать. Третья емкость за неделю, – процедил патологоанатом, когда стакан с остатками воды разбился вдребезги.
…Она пришла в себя на кушетке, в подсобке весельчака патологоанатома, устроившегося как раз напротив, под плакатом «SEX PISTOLS» FOREVER». От обоих подванивало формалином, а следователь (совсем уж лишний в этой келье) взирал на Настю со свирепым состраданием.
– Ну, как? Полегчало?
– Да, – соврала Настя и машинально одернула юбку.
«Напрасный труд, мадам. – Патологоанатом был прожженным циником, как и полагается его собратьям по профессии. – Никому и в голову не придет предположить, что под вашим подрясником скрывается нечто из ряда вон».
«Напрасный труд, гражданка. – Следователь был прожженным законником, как и полагается людям его профессии. – Пасть жертвой статьи 1311
Статья 131 УК РФ – изнасилование.
УК РФ вам не светит даже при самом худшем раскладе».
– Думаю, не стоит больше…
– Стоит. – Настя уже взяла себя в руки. – Я должна…
Черт возьми, ты должна была приехать раньше, только и всего! Сразу же после его странного звонка – собраться и приехать. Не ждать, пока снимут айву, чтобы дозревала на закрытой террасе. Не ждать, пока разольют по бочкам первое в этом году вино. А инжир, а варенье из розы, а сыроварня!.. Все это оказалось важнее, чем Кирюша, сунувший голову в петлю за тысячи километров от ее постылой сыроварни. И ее постылой жизни…
Теперь он лежит за стеной, с фиолетовой полосой на шее, с опущенными уголками губ, с седыми висками.
– Почему он седой? – спросила Настя у следователя.
Следователь пожал плечами.
– Ему всего-то двадцать один, – не унималась она. – Почему он седой?
– Когда вы видели брата в последний раз?
Вот он – вопрос, на который у нее никогда не было ответа!.. Она бы многое могла рассказать этому квадратному, отъевшемуся на нераскрытых заказухах представителю закона, имя которого так и не смогла запомнить. О том, как Кирюша выстригал себе челку под самый корень и жег спичками ресницы, – только бы не быть таким по-девчоночьи хорошеньким. О том, как он ненавидел изюм в детстве. И Зазу – в отрочестве и ранней юности (Заза – ее муж и благодетель. «До кровавых соплей благодетель», – так и сказал Кирюша перед тем, как бросить в сумку головку брынзы и яблоки. Перед тем, как бросить ее саму. И уехать в Питер)…
– Когда вы видели брата в последний раз? – снова напомнил о себе следователь.
– Три года… Три года назад.
– Стало быть, приехали в гости?
– Кирюша… Кирилл позвонил мне…
– Когда? – Снулые глаза законника оживились.
– Уж две недели будет как…
– И попросил приехать? – Следователь больше не церемонился. Впрочем, с Настей никто никогда не церемонился. – Долго же вы собирались, уважаемая.
– Он не просил приехать. – Настя сжалась, как от удара, широкие плечи вздрогнули. – Сказал только: «Если бы ты могла…»
– Ничего. Положил трубку.
– Вас разъединили?
– Нет. Не похоже, чтобы разъединили. Просто положил трубку, и все.
Веселая семейка, ничего не скажешь. Сестрица Аленушка от сохи и братец Иванушка от кокаина.
– Вы не знаете, ваш брат не употреблял наркотики? – Следователь старался не смотреть на покрасневшую Настю. – Анашу, например? У вас на юге, говорят, очень этим увлекаются? Может быть, было что-то по молодости, а?
Судя по целомудренно вспыхнувшим щекам, самым большим наркотиком в ее представлении был цейлонский чай Одесской чаеразвесочной фабрики. Со слоном. А чай следователь не любил. Ни цейлонский, ни индийский, ни даже экзотический из Венесуэлы, от которого иногда приключались глюки. И хотелось спровадить на электрический стул половину следственного управления. Следователь пил его только один раз, но самые зубодробительные воспоминания сохранил на всю жизнь.
– Наркотики? Кирюша?
– Именно. Кирилл Лангер.
Эта пейзанка в дешевой черной юбке, с рожей, опаленной таким же черным трудовым загаром, стала раздражать следователя, но все формальности должны быть соблюдены. Сегодня он закончит это дело (впрочем, банальное самоубийство и делом-то назвать нельзя; так, пасхальное яичко, пустячок, даже папки на него жалко) и займется наконец более серьезными вещами.
– Значит, вы не видели его три года.
– Не видела, – с готовностью подтвердила Настя.
– И чем он занимался – не имеете ни малейшего понятия.
– Не имею.
– Он звонил вам?
– Звонил… Много раз. Поздравлял с днем рождения. Потом – с Новым годом. Он всегда поздравлял с днем рождения и с Новым годом…
Зачем ты врешь, Настя? Да еще в таких подробностях. Открытка была только одна, с полустертым обратным адресом. «Счастливого Рождества». А звонков и вовсе не было. Кроме одного-единственного, совсем недавно, когда они сняли первый виноград… Что же сказал тогда Кирюша? Ага: «Если бы ты могла…» – именно так. А потом швырнул трубку на рычаг, даже не выслушав ответа. Впрочем, никто и никогда не интересовался ее ответами. И в этом нет ничего сверхъестественного, только сумасшедшему придет в голову интересоваться мнением пыльного подорожника (plantago major L.). Или жимолости (Lonicera Periclimenum). Или самого распоследнего молочая (Euphorbia angularis Klotz)… А ты, Настасья, обладаешь еще меньшим правом голоса, чем любой из разделов твоей обожаемой «Энциклопедии растений»…
– Ни одного праздника не пропустил, – сладко врала Настя. – И посылки присылал…
Толстогубый следователь бросил на нее полный тоски взгляд: святочные истории из жизни самоубийц его не волновали.
– Что ж, будем закругляться. Подпишите протокольчик опознания и, как говорится…
«Попутного ветра в горбатую спину», – хотел добавить он, как раз в духе цинично-разухабистого анатомического театра, но вовремя сдержался. И положил перед собой замусоленный бланк протокола.
– Фамилия, имя, отчество.
– Чьи? – испугалась Настя.
– Киачели. Ударение на «е». Киачели Анастасия Кирилловна.
– Странная фамилия. – Следователь не удержался от слегка пренебрежительного комментария по поводу неправдоподобно белых Настиных волос. Уж они-то явно не имели никакого отношения к грузинским окончаниям.
– Это по мужу. – Настя потерла обручальное кольцо, обветшалое и потускневшее от времени, и с готовностью пустилась в пояснения: – Вообще-то моя девичья фамилия – Воропаева.
– Ваш муж грузин?
– Какое это имеет значение? Хевсур…
Вот так всегда. Муж – хевсур, брат – самоубийца, только этим она и интересна. Да еще сумкой гранатов величиной с младенческую головку каждый…
– Очень хорошо. Значит, ваш брат, Лангер Кирилл Кириллович, вами опознан? – наседал следователь.
– Почему он седой? И рана на голове – откуда она? И потом еще это… Засохшая кровь возле уха, вы видели? Откуда это все?!
– Вы у меня спрашиваете?..
Настя тихо заплакала, чем окончательно вывела следователя из себя. Женским слезам он не верил, женские слезы он терпеть не мог – еще с той поры, как его супружница, наставлявшая ему рога с половиной следственного управления, была спущена с лестницы. Под аккомпанемент таких же вот беззвучных рыданий.
– Как это произошло?..
Да как обычно и происходит, гражданка Киачели. Звонок в милицию три дня назад – от обеспокоенной подружки потерпевшего: бойфренд, мол, дверь не открывает, на телефонные звонки не отвечает, а свет в его квартире подозрительно горит – и в светлое, и в темное время суток. Приехавший наряд вызвал Службу спасения, спасатели вскрыли железную дверь и обнаружили Лангера К.К., 1979 года рождения, висящим на собственном ремне в собственной ванной.
– Мрачная история, – подытожил следователь. – Сочувствую. Скажите, а ваш брат не страдал… э-э… психическими расстройствами?
И снова Настя покраснела, как будто он ляпнул что-то неприличное.
– Почему вы об этом спрашиваете?
Если бы вы только видели квартиру, которую он снимал, гражданка Киачели, все вопросы у вас бы сразу же отпали. Железная дверь с тремя замками и щеколдой (все три замка закрыты и щеколда задвинута), потеки крови на обоях – покойный коротал время за самым бесперспективным занятием: бился головой о стенку. А времени у него было вагон, судя по всему: все крупы в доме сожраны, все съестные припасы выпотрошены. Хоть шаром покати. И дурацкая надпись на оконном стекле. И божьи коровки, которыми было изрисовано все лангеровское сумасшедшее логово! Хватит и минуты для диагноза, и заморачиваться не надо.
– Обстоятельства смерти вашего брата… Они заставляют нас усомниться в его душевном здоровье.
– В армии он не служил?
– Не служил. У него тяжелое заболевание почек.
– Странно, – вклинился патологоанатом. – С почками у него все в порядке, заявляю официально. И вообще, внутренние органы в идеальном состоянии. Отечественная трансплантология рыдала бы по таким запчастям.
Настя не удостоила хохмача-некрофила и взглядом.
– Где расписаться?
– Вот здесь. И здесь. У вас есть где остановиться? – Теперь, когда дело было обстряпано, следователь позволил себе намек на участие.
Пропади ты пропадом, неужели не ясно, что остановиться ей негде? Что она никогда и в глаза не видела этого одичавшего от людских толп города. Что два часа назад она впервые в жизни проехала в метро, а час назад ее впервые в жизни обхамили в троллейбусе. И что переночевать она может только на вокзале. Или здесь, в морге судебной экспертизы…
– Я думаю… Та квартира, в которой он жил… Я бы могла…
Следователь скуксился и яростно почесал заросший кадык.
– Лично я бы вам не советовал. Место не из приятных…
– Разве я не могу там остаться?
В конце концов это проблемы гражданки Киачели. Дело закрыто, квартира, в которой обитал усопший, оперативного интереса не представляет, а возиться с этой Венерой от сохи – удовольствие ниже среднего…
– Можете. За квартиру эту вроде уплачено за полгода вперед, хозяева живут где-то в Псковской области, сюда не приезжают. Думаю, никаких проблем с этим не будет. Только сначала заедем в управление.
– Зачем? – Губы у Насти мелко затряслись, и она снова зарыдала.
И снова стала подозрительно смахивать на бывшую супружницу следователя, записную нимфоманку.
– Заберете кое-какие вещи покойного. И ключ от квартиры.
– А когда я смогу забрать брата?
– Собираетесь везти тело на историческую родину? – Чертов патологоанатом, развращенный упоительной и такой безнаказанной близостью к смерти, снова подначил Настю. – Дешевле здесь все устроить, честное слово. У нас и крематорий есть вполне сносный. И колумбарий при нем уютненький…
Следователь закашлялся: за пять лет совместной работы он так и не смог привыкнуть к дешевым шуточкам трупореза. Подобные шуточки приводили безутешных родственников в неистовство, они писали жалобы начальству патологоанатома, хотя (с тем же успехом) можно было писать жалобы и господу богу. Патологоанатом прочно удерживал позиции в морге, он пережил здесь всех, включая уборщицу и заведующего – третьего за последние полтора года.
– Нам пора. – Следователь еще раз сверился с листком протокола и посмотрел на Настю: – Нам пора, Настасья Кирилловна.
Симментальская корова в черной юбке даже возразить не посмела. И покорно поплелась за следователем.
…Патологоанатом нагнал их у самого выхода и бесцеремонно ухватил Настю за руку.
– Простите, пожалуйста… Вы не страдаете аллергией?
– Да… – Настя удивленно подняла выгоревшие брови. – Откуда вы узнали? На крыжовник…
* * *
…Записная книжка, портмоне со смехотворной суммой в тринадцать рублей сорок шесть копеек и ключи – вот и все, что досталось ей в наследство от Кирюши. Плюс листок с описью – чтобы не заблудиться в квартире брата на первых порах.
– Он не оставил никакой записки? – вежливо спросила Настя у следователя.
– Записки?
– Когда кончают с собой, то обычно оставляют записки. – Господи, неужели это говорит она, и к тому же таким казенным и безразличным голосом? – Вы следователь, вы должны знать. «В моей смерти прошу никого не винить…» Или что-нибудь в этом роде…
– Нет. Никаких записок не было.
– Я знаю Кирюшу. Он просто не мог покончить с собой.
– Вы не видели его несколько лет.
– Это ничего не меняет. Я никогда не поверю, что мой брат…
– Дело закрыто. И поверить вам придется.
Настя перевела дух. Дело закрыто, и бессмысленно что-то доказывать этому человеку. Человеку из Большого Города. А Кирюша был Человеком из Маленького Городка. В маленьких городках совсем другие отношения со смертью. Гораздо более почтительные. Никто не станет ломиться к ней без спроса.
– Вы говорили что-то о его знакомой… Которая позвонила в милицию. Я могу поговорить с ней?
Следователь скептически осмотрел Настю с головы до ног: к черной, уже намозолившей глаза юбке был пристегнут такой же черный мешковатый свитер. Поношенная куртка из кожзама и темный платок дополняли картину. Вряд ли подружка самоубийцы захочет встречаться с его сестрой, хотя и она тоже была в черном. Но это был совсем другой черный цвет.
Стильный черный.
Подружка самоубийцы пользовала духи «Magie Noire»2
«Черная магия».
И подкрашивала губы радикальной помадой «Das Schwarze Perle»3
«Черная жемчужина».
Подружка самоубийцы была с ног до головы увешана шайтанским агатом, косящим под черный опал (продвинутые кольца без оправы для камня и такие же продвинутые кулоны). Подружка самоубийцы отрекомендовалась идиотским и явно где-то украденным именем «Мицуко», сразу же попросилась в «дабл» (он же сортир при ближайшем рассмотрении). А потом всю дорогу донимала следователя ею же самой изобретенной присказкой «o’key-dokey».
И даже не всплакнула над бездыханным телом любовничка.
– …Я могу поговорить с ней? – Настя снова напомнила следователю о своем существовании.
– Не думаю, что это прояснит ситуацию… Но если хотите…
– Как с ней связаться?
«Возле урны с прахом и свяжешься», – хотел было сказать следователь – как раз в духе патологоанатома, – но вовремя сдержался, сердобольный придурок. Впрочем, в Управлении его так и называли – «Забелин – сердобольный придурок».
Кроме портмоне, записной книжки и ключей от квартиры, Настя получила еще и сопровождающего – стажера с сомнительной фамилией Пацюк. Управленческие шутники отрывались на Пацюке по самые гланды, они преуспели в интерпретациях: за месяц Пацюк побывал и «По ци ком» (с ударением на ехидно-непристойном «О»), и «Посс юком», и «Пис юком», – пока секретарша районного прокурора Оксана, имеющая кровных родственников где-то под Тернополем, не сообщила, что «Пацюк» переводится с хохлацкого как «крыса».
Тут-то и начался очередной виток пацюковских мучений. Ладно бы только крыса, это еще можно пережить, так ведь еще и хохол!..
Но Пацюк плевать хотел на все эти хихоньки-хахоньки и глубокомысленные замечания в курилке о пользе украинского сала для молодого растущего организма. Напротив, он собирался пустить в Управлении корни и со временем занять в нем видное место. И уже не сходя с этого места, заняться протухшими «глухарями», коих в Управлении набрался не один десяток. Кроме того, Пацюк читал по ночам «Практическую психологию» и изысканные малостраничные японские детективы. И был уверен, что нераскрываемых преступлений не существует.
Именно Пацюка, этого недобитого адепта Эдогавы Рампо4
Эдогава Рампо (1894–1965) – японский писатель, автор детективов.
И пристегнули к Забелину. И к забелинским делам, где, кроме серьезного двойного убийства на Наличной, полусерьезного несчастного случая с крупным бизнесменом, выпавшим из окна, и совсем уж несерьезной коммунальной поножовщины на набережной Макарова, а также прочей бескровной шелухи, значилось еще и самоубийство К. К. Лангера.
Пацюк имел неосторожность выехать на место происшествия вместе со следственной группой – и тут же был сражен наповал утонченной красотой приятельницы покойного. Впрочем, поговорить с ней стажеру не удалось. Дело было настолько явным, что следственная группа, пробежав галопом по квартире сумасшедшего, свернула работу в рекордно короткие сроки. Паспортные данные самоубийцы, паспортные данные соседей, паспортные данные (вдох-выдох, выдох-вдох!) черноволосого ангела. Впрочем, паспортные данные его не интересовали. Куда больше его заинтересовало имя, на которое ангел откликался.
В этом было что-то смертоубийственно-японское.
Нет, японкой она не была, черта с два, но этот черный макияж, этот длиннющий и почти девственно-чистый плащ, который оказался не по зубам питерской грязи, сигарета «More», небрежно сжатая губами!.. Было от чего прийти в возбуждение.
Самоубийцу Пацюк так и не увидел – его сняли с трубы в ванной и упаковали в черный пластиковый мешок без непосредственного участия стажера. Да и что могло значить какое-то вшивое самоубийство, если на кухне снимали показания с самого прелестного существа, которое только можно себе вообразить! А этот бесчувственный хрен Забелин разговаривал с этим существом так, как будто оно было последней судомойкой, последней официанткой или (господи, прости!) последней шлюхой, которой достаются самые невыгодные и плохо освещенные места на панели!..
Пацюку потребовалось совсем немного времени, чтобы спечься от внезапно вспыхнувшей страсти, – и к тому моменту, когда Мицуко, надув глуповато-черные губки, подписывала протокол, он был уже готов. Хорошо прожарен и приправлен специями. Но подойти к предмету вожделения так и не решился. Во-первых, он был всего лишь жалким стажером, то есть промежуточным звеном между листком протокола и служебно-разыскной собакой. Во-вторых, жалкая куцая куртка и такие же жалкие неначищенные ботинки!.. В-третьих, четвертых, пятых… Добравшись до десятого пункта, Пацюк понял, что никаких шансов у него нет. Во всяком случае – пока.
Она была хорошо воспитанной девочкой.
Она выросла в приличную, правильную женщину.
Она была такой, как все – воспитанные, скромные, продумывающие умом каждый свой шаг – женщины, озабоченные тем, как они выглядят, что о них скажут. Озабоченные тем, примут ли их – такими, какие они есть.
Честно сказать, она давно уже понятия не имела – какая она есть.
Засунутая с детства в личину долженствования, необходимость все время какой-то быть, как-то выглядеть, проявляться, что-то говорить, носить (как все), она сама не заметила, как перестала быть собой. Обросла личиной и стала личностью, в которой все было ложью: и мысли, и чувства, и лицо – фальшивое, всегда изображающее благополучие.
И давно забыла – и кто она, и какая она.
И уже не знала, кто там, в ней, внутри этой личины? И не доверяла, даже боялась ее – себя настоящую. И просто не могла себе позволить проявиться той, какая она там, внутри, есть. Боялась кому-то открыться, довериться, видя вокруг себя одни личины – такие же правильные, такие же фальшивые.
А потом уже и не могла выпустить себя, словно личина ее закостенела, превратилась в жесткую литую конструкцию.
И стала она как чинная кукла, внутри которой – живая – она существовала…
…Она была скрыта от самой себя – в рамках норм, долгов, правил. В страхах быть непонятой, непринятой.
И тесно ей было в себе. Что-то внутри нее билось. Она сама билась о себя. Билась в себе – и выпустить себя наружу не могла.
Она варилась в себе, и, казалось ей иногда, она там – внутри – загнивает. И когда-нибудь исчезнет совсем, и следа от нее – внутренней, настоящей – не останется. Останется только личина эта – жесткая, с фальшивым лицом, словами, интонациями.
Она жила в подвешенном состоянии. Это состояние – зыбкое, неуверенное – сопровождало ее всегда. Словно не на что ей было опереться и нечем. Не было в ней какого-то стержня или ног, крепко стоящих на твердой поверхности.
Жила она в вязкости, в тугой, плотной вязкости, словно как увязла когда-то – так и не могла выбраться на свободное, чистое пространство.
Страшно ей было в себе, в своем жестком коконе. И одиноко – в своей темнице. Мысли, чувства – все было скрыто внутри, все было невыпущенным, спрятанным.
Но по ночам ей снились сны – цветные, яркие, живые сны, которые повторялись и повторялись, словно реальность эта где-то существовала и она просто периодически попадала в нее, как попадала, выходя из поезда, в другой город.
Снилось ей одно и то же, одно и то же – словно смотрела постоянно повторяющийся фильм…
…Личина была жесткая, прямая, негнущаяся. Состояла она из жестких колец, сцепленных друг с другом. И в ней билась живая душа. В ней жила суть, истинное ее наполнение: бабочка – яркая, сильная, со свободным размахом крыльев.
Находясь в личине этой, стиснутая ее кольцами, смотрела она сквозь тонкие щели между ними – в мир. И видела там бабочек, живых, ярких бабочек. И думала потрясенно: «Какие красивые!»
Смотрела – стиснутая, сжатая, сквозь щели, – как легко и свободно порхают они, и думала – с огромной-преогромной светлой завистью: «Счастливые!.. Летать могут…»
Чувствуя свою скованность, склеенность в вязкости личины, робко удивлялась: «Неужели и я такая же? Неужели и я могу летать?!»
И не могла допустить мысль, что и она – такая.
Но вдруг – там, во сне – вся эта жесткая конструкция начинала трещать и отваливались осколки ее. И мощная, склеенная от тесноты, в которой жила, но с огромным размахом крыльев проявлялась, открывалась она – истинная. Словно истинная красота появлялась в мире.
Королевскими движениями, достойно, широко расправляла она свои крылья, поражаясь их размаху, красоте и яркости расцветки.
И выпрямлялась в великой своей истинности. И, вставая впервые на ноги свои, ощущала под ногами опору. И, отталкиваясь от поверхности, разворачивала крылья.
И она – летела. И полет ее был чудесным.
Свободный размах крыльев нес ее над миром. Пространство, проплывая под ней, дарило ей ощущение владения миром.
И свободной, свободной-свободной она была. И сильной в своей свободе.
Она была собой. Суть ее вела ее. И она летела от одного цветка к другому, собирая нектар жизни, вкуснее которого никогда ничего не чувствовала. И летала, летала, летала…
И просыпалась в этом состоянии полета, живой жизни, ощущая свободу – чего не было у нее в реальности.
И возвращалась в свою личину. В свои жесткие рамки, кольца, фальшивые слова и выражения лица.
Она просыпалась и чувствовала, знала: этот сон – о ней. О ней внутренней, настоящей, невыпущенной, непроявленной. Она знала это – и не верила самой себе. Не верила в пространство той Вселенной, которая жила в ней, – с яркими мечтами, образами, планами, желаниями, идеями, красочными картинами возможной ее – другой жизни. Жизни, в которой она – свободная, безграничная, парящая над миром, не ограниченная жесткими кольцами, темнотой, страхами.
И она думала с сомнениями: «Неужели я – такая? Неужели там, во мне – такое скрыто?!»
Но она там, внутри, была большая, непознанная. И чувствовала в себе силу эту, потенциал невыпущенный. И от сна к сну все большей она себя чувствовала. И будоражила ее зависть светлая к той бабочке, которой она была во сне, и увеличивала ее желание жить. Жить – как во сне: летать, танцевать – от цветка к цветку. И выпускать, проявлять себя…
…Она была послушной девочкой – всегда. Наученная взрослыми, она слушала других, молчаливо соглашалась с ними.
– Ну что, курносая, – говорил, приходя в гости, ее дядя, и щелкал ее по носу. Ей это не нравилось, но, как хорошая девочка, она молчала, не проявляя своих чувств. Хотела она быть такой, чтобы нравиться родителям, потому и вела себя так, как от нее ожидали, – скромно, послушно, соглашаясь со взрослыми.
И все чаще и чаще вела себя как чинная, правильная кукла.
Она никогда не умела постоять за себя, терпела оскорбления мальчишек, которые дразнили, обзывали ее – хорошую и правильную девочку.
И сейчас, став взрослой – правильной, хорошо воспитанной женщиной, – она не выражала несогласия и не стояла за себя.
Терпела громкую, хамоватую продавщицу, которая, словно выбрав ее для насмешек, говорила:
– Ну что, задумчивая вы моя, стоять будем или заказывать?!
После этих слов она еще больше тушевалась и говорила негромко, заикаясь:
– Мне двести грамм докторской…
Она, послушная и старательная, была отличницей в школе. Она получила высшее образование, но занимала в НИИ скромную должность младшего научного сотрудника, в ряду таких же скромных и исполнительных сотрудников, живущих в личинах своей личности.
Их начальник – высокомерный, самовлюбленный мужчина, входя в их комнату, говорил:
– Ну что, непризнанные гении!.. Какие великие открытия вы сегодня совершили?
В его словах всегда звучала издевка. Ей всегда это не нравилось, и она внутри вспыхивала и тут же гасла, привычно себе объясняя: «Он так шутит».
Она была хорошо воспитанной женщиной, поэтому слушала других, оправдывала других, понимала других. Не умея слушать себя, слышать себя, свои желания. Не позволяя себе чувствовать, выражать чувства.
Ее перевели в филиал, далеко от ее дома, не обсудив с ней этот перевод, – и она согласилась с этим, не высказав своих чувств. Хотя ездить туда было далеко и неудобно – тогда как прежде работала она в двух станциях метро. И она несколько раз порывалась подойти к начальнику и сказать, что не согласна с переводом, что ее не спросили. Но сама себя остановила: «Значит, так надо…»
Гуляла за городом Божья коровка,
По веткам травинок карабкалась ловко,
Глядела, как в небе плывут облака…
И вдруг опустилась Большая Рука.
И мирно гулявшую Божью коровку
Засунула в спичечную коробку.
Коровка ужасно сердилась сначала,
Мычала и в стены коробки стучала…
Но тщетно! Забыли о ней в коробке,
Закрыли Коровку в шкафу, в пиджаке.
Ах, как тосковала в коробке бедняжка!
Ей снились лужайка, и клевер, и кашка…
Неужто в неволе остаться навек?!
Коровка решила готовить побег.
Три дня и три ночи рвалась она к цели.
И вот, наконец, вылезает из щели…
Но где же деревья, цветы, облака?
Коровка попала в карман пиджака.
Однако она, не теряя надежды,
Бежит на свободу из душной одежды:
Там солнце, и ветер, и запахи трав…
Но вместо свободы увидела шкаф!
Тоскливо и страшно Божьей коровке.
Опять она в тёмной пустынной коробке.
Вдруг видит: вверху, где вставляется ключ,
Сквозь щёлочку в шкаф пробивается луч!
Скорее на волю! Коровка отважно,
Зажмурясь, штурмует замочную скважину…
И вновь оказалась в глухом коробке
С огромною люстрой на потолке.
Однако Коровка на редкость упряма:
Нашла, где неплотно захлопнута рама…
И вот вылезает она из окна -
Ура! Наконец на свободе она!
И вновь на знакомой лужайке букашка.
Под нею, как прежде, колышется кашка,
Над нею плывут в вышине облака…
Но смотрит на мир осторожно Коровка:
А вдруг это тоже Большая коробка,
Где солнце и небо внутри коробка?!
Когда-то, очень давно, появилась на свет божья коровка. Летом она наслаждалась солнышком и поедала тлю. Глубокой осенью, накопив жира, забивалась в дырочки деревьев, в щели между камнями или пряталась в куче опавших листьев и засыпала до весны. Жилось ей вольно и радостно, потому что от рожденья божья коровка была совершенно зелёная, и ни одна птица не могла разглядеть её в летнем убранстве Земли. Её жесткие надкрылья, головка с усиками, тельце и шесть лапок были тёмно-зелёные, как зрелый огурец. А крылышки были светло-зелёные, как первая травка. Божья коровка была довольна своей спокойной жизнью. Мало кого замечала вокруг. Ни с кем не дружила. И уж тем более ей были безразличны эти невежественные птицы, которые тенью в полёте заслоняли от неё солнце. Которые, сев на кустик, где располагалась коровкина излюбленная столовая, своим весом пошатывали ветви. И иногда коровка срывалась и падала на землю. Что, естественно, прерывало пятый завтрак, или шестой обед, а может быть и какой-то из полдников.
- Какая невоспитанность! - восклицала божья коровка. - Немедленно извинитесь!
Но птицы не замечали её. А коровка и не настаивала. И так бы она прожила до глубокой старости и оставила после себя такое же зелёное потомство, если не случилось бы вот что...
Как-то лето выдалось холодное и сырое. Насекомый мир скрывался от непогоды под корой деревьев и редко показывался наружу, боясь подхватить простуду. Насекомые страдали от голода. Многие гибли. Поэтому голодали и птицы. Только дятлы всегда были сыты. Потому что умели доставать даже очень глубоко спрятавшихся букашек, продалбливая кору своими мощными клювами. А под корой цвет не важен. Страшно было божьей коровке, которая смогла найти только мало надёжное убежище в старом пне: неглубокую ложбинку. В ней она и проводила большую часть времени. Лапки её ослабли, тельце исхудало. И коровка с горечью думала, что, даже если она доживёт до зимы, то весной вряд ли проснётся.
И вот до неё дошла весть о том, что огромный ворон, что жил в ветвях старой полузасохшей берёзы, собрал гвардию дятлов, и речь такую каркал:
- Дятлы! Вы сыты, вы довольны! Но посмотрите! Гибнут вокруг ваши братья и сёстры пернатые. Попрятались яркие насекомые, и не видно их. А тех, что цветом с листвой сливаются, и подавно. Помогите не умереть с голоду другим птицам. Здесь, под старой берёзой, соорудили сороки-белобоки блюдо из лопухов. Вытащите какую-нибудь козявку - приносите и в лопухи складывайте. А когда полно станет - устроим пир на весь птичий мир!
- А что же делать с зелёными насекомыми? Начнут по лопухам разбегаться, и не увидят их птицы?! - спросили дятлы.
- Об этом мы с сороками позаботимся. Красками их разукрасим - синими, жёлтыми, красными. И будут птицы видеть эти яркие пятна даже с большой высоты.
Так и сделали. Огромная стая дятлов разлетелась на охоту. И уже через несколько минут в лопухах появилась кучка полусонных насекомых, раскрашенных Матерью-Природой в разные цвета. Зелёных же сороки выхватывали и, слегка, прижав одной лапкой, так, чтобы не раздавить, свободной лапкой лихо орудовали тонкой художественной кистью, расписывая жучков-паучков на свой сорочий вкус.
А наша знакомая божья коровка тем временем дрожала от ужаса. И как только один из охотников добрался и до её нехитрого укрытия, коровка, не сопротивляясь, сама выбралась из ложбинки и покатилась по склону пня, где и была схвачена дятлом.
- Послушайте, уважаемый дятел! - вдруг заговорила коровка и удивилась своей смелости. - Послушайте! Отпустите меня, пожалуйста! Вы же не голодны, правда? А я маленькая, незаметная, меня и не пробовал никто и никогда. А вдруг я ядовитая? Ну, что Вам стоит?! Просто разожмите клюв - я упаду в травку и быстренько ускользну. Вас никто не обвинит в помощи насекомым.
Дятел молчал.
- Что же вы молчите?! - в отчаянье крикнула божья коровка.
- Я с едой не разговариваю, - буркнул дятел, разжав клюв.
И тут же коровка упала в блюдо из лопухов.
Очутившись в лапках у сороки, божья коровка только удивилась тому, как аккуратно с ней обращаются, как стараются не поранить. А когда она обернулась, чтобы посмотреть на рисунок, то он ей даже понравился. Надкрылья стали ярко красными, и семь ровных чёрных пятнышка расположились по три с боков и одно около головы. Наблюдая за тем, как лопухи наполняются, божья коровка увидела, что некоторым насекомым всё-таки удаётся спастись. И тут наша отважная коровка изо всех сил напряглась, чтобы сообразить, что же ей теперь делать? Какой ужас! Она ярче всех, её просто обязаны склевать первой. "Ну, нет! - думала божья коровка. - Я теперь такая красивая, я не хочу стать чьей-то пищей в самый расцвет своей жизни!"
Вот какая-то птица уже нацелилась схватить коровку. Но та вдруг сложила лапки и вывалилась из блюда, упав на землю брюшком кверху. Её усики повисли, и она осталась недвижима.
Птица, которая только что собиралась склевать несчастную, удивлённо уставилась на коровку, потопталась немного рядом и спросила:
- Сдохла, что ли?
Не получив ответа, птица брезгливо поёжилась, склевала синего жучка из блюда и улетела.
Божья коровка оставалась лежать так до тех пор, пока вся пернатая братия не наелась и не разлетелась по домам.
Настал вечер, а затем и ночь. И только тогда, в полной темноте, божья коровка перевернулась на лапки и поплелась от страшного места. "Что же делать? Как теперь жить?!" - думала она. "Никакого спокойствия. Только и делай, что прячься!" - плакала коровка.
- Мать-Природа! Мать-природа! - взмолилась она. - Посмотри, какая я яркая. Меня же с Луны видно! Помоги! Сделай так, чтобы эти прожорливые хищницы не возлюбили моего вкуса.
- Так и быть, помогу я тебе! - ответила Мать-Природа. - Я подарю тебе вот эту тлю, наполненную едкой жидкостью. Проглоти её. А как только кто-то из пернатых захочет склевать тебя - выплюнь каплю. Отныне ни одна птица не посчитает тебя за лакомство. Даже самая голодная! - улыбнулась Мать-Природа.
И, действительно, первая же сорока, что попыталась пообедать божьей коровкой, с отвращением выплюнула её. И разнесла весть по всему свету о невкусном ярко-красном жучке с чёрными точками. А божья коровка опять зажила спокойно. И, к нашей радости, потомство её оказалось таким же нарядным.